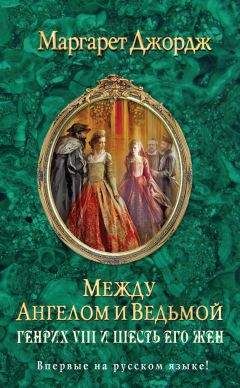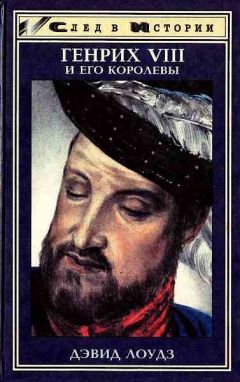Уилл:
Увы, нет. Гольбейну суждено было обрести вечный покой в траншее, где он сгнил в компании какого-нибудь трактирщика или кормилицы, и их прах ныне уже смешался.
Чумная эпидемия породила моральные вывихи. Добрососедские отношения улетучились, поскольку все шарахались от больных, отказываясь даже прикасаться к их дверям, за умирающими ухаживали лишь вымогатели, чья алчность превосходила страх.
Боязнь заразиться делала людей безумными, они самозабвенно предавались самым низменным порокам. Семь смертных грехов предстали в омерзительном размахе. Мужчины, женщины, дети погрязли в них.
Гордыня обуяла многих. Некоторые запирались в своих домах, считая, что страшная участь минует их, если они вступят на путь «умеренности и спокойствия». Они питались изысканными яствами, пили тончайшие вина, слушали приятную музыку и никого не впускали, хотя соседи стучали в их двери, умоляя о помощи. Эти гордецы отмахивались от любых новостей, их не волновали события, происходящие за порогом, будь то в столице или во всем королевстве.
Гордыня рядится в разные одежды: очередным ее проявлением стала бравада, от коей пострадал любимый сын Франциска, герцог Орлеанский (ведь эпидемия свирепствовала и за Каналом). Он ворвался в зараженный дом и начал вспарывать мечом перины с криком: «Ни один из сынов Франции еще не умер от чумы!» — и скончался, согласно чумному календарю, спустя три дня. Еще один тип гордыни удерживал людей от спасительного бегства, и они непоколебимо, как Уолси, продолжали нести свою службу.
Нагло оскалившаяся алчность уничтожила страх наказаний. Мародеры, как и упомянул Хэл, обкрадывали вздувшиеся трупы; до предела подскочили вымогательские цены за простейшие услуги; хищные «обиралы» уподоблялись вампирам, подряжаясь за бешеные деньги отвезти трупы к месту захоронений, тогда как «порядочные» люди бежали оттуда прочь. Алчность побуждала грешников присваивать должности и имения, покинутые законными владельцами.
Зависть и гнев, взявшись за руки, позволили слугам напялить одежды господ и нагло обосноваться в их гостиных. Чернь расшалилась, будто испорченный мальчишка, ломающий розы в ухоженном саду. Лакеи злобно ликовали, сбрасывая тела своих хозяев в общие ямы или оставляли их гнить прямо на улицах. Полнейшая потеря стыда и упадок нравов! Камердинеры с наслаждением вдыхали зловоние, созерцая, как разлагаются и сгнивают до костей трупы родовитых дворян, привыкших расхаживать в длиннополых, отделанных мехом нарядах и драгоценных парчовых шляпах.
Чревоугодие пышным цветом расцвело на этой смертоносной почве. Сознавая, что завтра он может умереть, человек предпочитал обожраться до безобразия и отойти в мир иной с липкими от вина губами. Некоторые заявляли, что будут рады, если излишества сведут их в могилу прежде болезни, но втайне надеялись, что тем самым смогут обмануть чуму. Обжоры и пьяницы проводили время в разгульных пирах и попойках, разоряя погреба и переходя из дома в дом, не ради золота, а ради пищи и вина. Их последние дни прошли в пьяном забытьи.
Чума, разумеется, породила и неумеренный блуд, и были те, кто мечтал встретить смерть в объятиях Венеры. Неминуемым освобождением от морали они оправдывали все свои грехи. Погружаясь в бездну изощренного разврата, они устраивали вакханалии в опустошенных смертью домах, где предавались всем известным со времен Древнего Рима и расцветшим во Франции порокам. Даже почтенные дамы, метавшиеся в чумной лихорадке, пали жертвами охваченных похотью мужчин, которые являлись, чтобы «обслужить» их. «Обслуживание» заключалось в срывании одежд и насилии… после чего несчастных оставляли умирать.
Повсюду правило беззаконие. Судей и святых отцов чума косила наряду с другими горожанами, и все меньше оставалось правомочных представителей, способных вершить правосудие или приобщать к таинствам. Если кому-то и удавалось отыскать священника для отпевания, то зачастую вместо одного покойника ему подсовывали множество гробов, поскольку обыватели усердно следили за любыми признаками церковных похорон и старались пристроить к ним своих почивших родных. Однако вскоре некому стало следить за соблюдением гражданских или церковных законов, да никто и не стремился следовать им, а в итоге наступило полное безвластие.
Незаметно подковыляло сгорбленное уныние и привело с собой праздность, которая пухла как на дрожжах, — люди отказывались от самых простых и привычных дел: уборки улиц, вывоза мусора, сбора урожая. Они устроили себе чудовищные праздники.
Чума превратила меня если не в истинного христианина, то по меньшей мере в моралиста. Ибо человеческая натура предстала в такой гнусной дикости, что стала очевидна необходимость порядка, пусть самого жесткого и негуманного, но укрощающего зло.
По крайности, до окончания эпидемии.
Я постыдно забыл о Гольбейне. Не позаботился о его бренных останках, повел себя как варвар, как свихнувшийся от страха малец. Чума сделала меня язычником… меня, главу церкви Англии. Проезжая мимо кучи трупов, я вознес пылкую молитву: «Им даруй, Господи, вечное упокоение».
И, вспомнив о себе, добавил: «Прости мои проступки и слепоту».
Знания умножали понимание жизни, однако не уменьшали количество грехов.
* * *
За городскими стенами нам на глаза попалось много брошенных на произвол судьбы или закрытых домов. Но я ошибался, считая, что чума не проходит сквозь стены. Фермеров смерть настигала прямо в полях, а их семьи в то же время гибли в усадьбах. Тощие коровы, свиньи, овцы, козы бродили по дорогам. Сорвавшиеся с привязи собаки одичало рыскали в поисках добычи, припадая к земле и рыча при нашем приближении. Повсюду колосились заброшенные поля, злаки выросли, но некому было собирать урожай. В людях проснулась грубая алчность, и они срывали и скашивали все, что созрело и годилось в пищу. Перемалывали зерна в муку, заквашивали пиво, но не задумывались о завтрашнем дне и не делали запасов.
Двигаясь на запад, мы проехали по деревням Уокингема, Силчестера и Эдингтона. Чем дальше от Лондона, тем меньше крестов попадалось на дверях, все реже встречались на пути зловонные кучи трупов, и наконец, достигнув Уилтшира, мы обнаружили местечко, где люди спокойно жили, не ведая ни о каких несчастьях, и трудились на ухоженных и радующих глаз наделах. Мы настолько привыкли к хаосу и запустению, что взирали на этих селян как на чудо.
Всю дорогу я тревожно оглядывался назад, подобно Орфею. Я очень боялся потерять своих спутников. Вдруг кто-то из них остался в чумном аду?
Черная смерть обошла Уилтшир стороной. Процветающие села сменились древними угодьями, не изменившимися со времен короля Артура, и из Савернейкского леса мы выехали на хорошо знакомую мне узкую дорожку с колеями, которая вела к Вулф-холлу.
Вновь я увидел крепкие стены этого небольшого замка. Родной дом Джейн. Меня охватили трепетная радость и щемящая грусть.
Глупец, глупец, зачем ты приехал сюда? Неужели надеялся увидеть Джейн?
Нет, ответил я сам себе. Но у меня хватит сил, чтобы вынести ее отсутствие.
Странная гордость охватывает порой человека, постигшего Господню волю, и он в исступлении готов принять терзания тернового венца…
Уилл и доктор Баттс расположились вместе со мной в бывших покоях сэра Джона. Эдуард спал в девичьей спальне Джейн, а Том Сеймур занял свои прежние комнаты. Леди Парр обосновалась в гостевом крыле.
Мы вели незатейливую сельскую жизнь, и я вдруг понял, что наслаждаюсь ею. Нас не тревожили усердные священники, никто не ходил на утренние мессы. Мы спали сколько заблагорассудится, хотя обычно просыпались около семи часов утра. Нас будили голоса поднявшихся на три часа раньше крестьян, запахи свежескошенной травы и яркие лучи солнечного света, пляшущие на полу. Сходясь к завтраку, мы подкреплялись черным хлебом и сыром, свежайшим деревенским маслом и сливовым вареньем, выпивали по кружке эля и выходили из дома, иногда в полном молчании, вбирая в себя пьянящий воздух июньского утра, напоенный ароматами еще влажных от росы гвоздик и цветущего шнитт-лука. Кейт Парр ежедневно занималась с Эдуардом; Том беспокойно слонялся по усадьбе и близлежащим деревням; Уилл и доктор Баттс прогуливались, обсуждая вопросы политики и медицины. А что поделывал я? Я пытался решать мировые вопросы, поддерживая связь с Тайным советом и Континентом. Сидя в скромной мансарде, я едва верил, что за ее стенами мое слово может иметь хоть какой-то вес.
Обед проходил в ленивой праздной обстановке. Подавали традиционные местные салаты из репчатого и зеленого лука с листьями одуванчиков, запеченных в тесте жаворонков и голубей, вишни со сливками и пряное вино. И мы с удовольствием подолгу просиживали за грубо сколоченным столом на скамьях, установленных прямо на выложенном булыжником дворе, нам не хотелось расходиться, и кто-нибудь обычно заводил разговор. Беседовали мы свободно и на любые темы. Послеобеденное время посвящалось дальним прогулкам, музицированию или любительскому философствованию. По вечерам, когда удлинялись тени, мы собирались в просторной верхней гостиной для скромного вечернего молебна. Я проводил службу, сам выбирая псалмы и простые молитвы, подходящие для завершения дня.