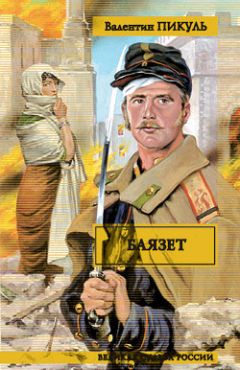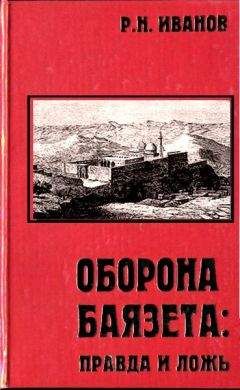Ознакомительная версия.
Между тем, как добрый начальник своих подчиненных, генерал-квартирмейстер Ползаков не мог не навестить Некрасова, который попал в беду. Старый вояка понимал людские отношения просто: поклонился человеку «в случае» – подлец, отвернулся от человека в беде – тоже подлец.
А потому и нагрянул в тюрьму, при шпаге и при всех регалиях, которых скопилось на его туловище за пятьдесят лет службы немало. Ползакова, конечно, не допускали до свидания с политическим преступником. Но на беду дежурным жандармом оказался офицер, носивший не совсем русскую фамилию Кампенгаузен-Броуна, и теперь можно было толковать генералу что угодно – он все равно никого не слушал.
– Ага! – рычал он. – Одна шайка… Всех вас давить надо, мать в перемать… пруссаки поганые!
Генерал добился своего – его допустили к Некрасову, которого предварительно перевели в канцелярскую комнату. Ползаков сунул штабс-капитану сто рублей «на дорожку», и Юрий Тимофеевич их взял у старика, чтобы не обидеть его сердца.
Но ему тоже попало от строптивого генерала.
– Всё немцы! – сказал он. – Все они, проклятые… Они и политику придумали. Говорил я тебе, чтобы сторонился ты их. Так нет, ты еще под мое начало одного подсовывал…
На прощание они поцеловались.
И потекли дни.
3
«Да текут дни по желанию моему!..»
Так однажды сказал Карабанов, вспомнив об Исмаил-хане Нахичеванском, и подивился тому, что каждый наступающий день желателен теперь ему, словно праздник. И течет он, этот день, тягуче и приятно, словно время в восточном кейфе – под бульканье наргиле, под щипание струн тонкими пальцами девушки.
Труднее всего было снова нащупать под собой лакированные плитки паркета, ушедшие когда-то из-под ног. Нелегко было снова врастать в серебристую чешую свитского офицера, почти полупридворного.
«Как мне поступить? – часто раздумывал Карабанов. – Или лучше отдаться на волю течения?..»
Впрочем, ничего не было решено.
«Да текут дни по желанию моему… Пусть текут!»
Карабанову для отдыха были отведены свободные покои во дворце наместника, стоявшем в Боржомском ущелье, на самом берегу Куры, стремительной и певучей. Выстроенный среди лесистых холмов, звенящих на ветру арфами сосен, этот пышный отель мавританского стиля, насквозь пронизанный блеском стекла и прохладной белизной тентов, напоминал живущим в нем обитателям (живущим в тревоге междоусобиц и кровавых раздоров) о лучших европейских курортах.
Однако изнутри дворец наместника был похож скорее на какой-то содом, почти вавилонское столпотворение, словно левантинский майдан, разноликий и разноязыкий, расселился по его комнатам, балконам и башням. Карабанов не знал, на каком языке ему беседовать с обитателями дворца. Из русских были только горничные и казачья охрана. Вывезенные из Бадена фрейлины, подруги великой княгини, говорили только на языке доброго фатерлянда. Врачи отзывались на английский, садовники – на голландский. Бонны малолетних великих князей трещали по-французски, а девицы лучших фамилий Кавказа, взятые из бедности в приживалки, знали только язык родных гор. Слуги и повара целые дни грызли один другого по-турецки. А солдаты-дровосеки признавали только один язык – матерный, которого строго и придерживались.
Карабанов уже не раз, высунувшись из окна, грозил им сверху:
– Вы бы там… полегче!
– Никак нельзя, ваше благородье: полено-то тяжелое… Да вы не тревожьтесь, здесь все равно никто по-русски ни хрена не понимает!..
Первые дни своего отдыха в Боржоми Карабанов старался побольше спать, принимал советы врачей, к общему столу выходил редко, лениво, присматривался к молоденьким и глупым фрейлинам. Сама же Ольга Федоровна, принцесса Баденская Цецилия, женщина еще моложавая, невыносимо скучная от избытка немецких добродетелей, мать примерная и плодовитая, недавно родила седьмого ребенка – Алексея, который еще в пеленках сделался шефом 161-го пехотного Александропольского полка.
Карабанову мешали спать не в меру ретивые солдаты этого полка. Когда им хотелось выпить, а денег на выпивку не было, они заводили под окнами дворца такую «уру» в честь своего покровителя, что Ольга Федоровна спешила выйти за балкон с мешочком медяков – только бы эти горлопаны не разбудили малолетнего шефа. Карабанов злился, но не идти же ему было ругаться с любителями выпить, – здесь тебе не Баязет, где все делалось от души, по мере надобности…
Иногда во дворце стремительным наскоком, между делами, появлялся и сам хозяин – наместник Кавказа, великий князь, стареющий красавец. Михаил Николаевич наспех целовал детей в лоб, чмокал жену в руку и тут же заявлял, что он сейчас уезжает обратно. Иноземные приживалки с писком, словно испуганные крысы, шарахались от него, разбегаясь по своим норам, разукрашенным кружевами и вышивками. Наместник пылящей бомбой пролетал через длинные анфилады комнат, ударами ноги расшибая перед собой половинки дверей, врывался в свой кабинет, щелкал замок, и во дворце наступала непривычная тишина.
Карабанова наместник вызывал к себе, давая ему незначительные поручения. Иногда поручения были настолько интимного свойства, что Андрей даже боялся сделаться под конец официальной сводней. Михаил Николаевич был мужчина еще в соку – ему одной жены не хватало. Вкус у великого князя был несколько извращенный: он обожал ягоды, уже сильно надклеванные перелетными птицами, и Карабанов попутно клевал их тоже.
В один из своих наездов Михаил Николаевич сказал:
– Неподалеку отсюда два аула замирить надобно. Возьми две казачьи сотни, на станции будут приготовлены вагоны. Требуется переселить горцев на плоскость. Спроворь.
Карабанов налетел ночью на спящие аулы. Велел жителям взять лишь необходимое, поджег сакли, вытоптал конями посевы, изрубил виноградники и отвез бунтующих горцев на мирную плоскость, где им было не разгуляться. Новая деревня, по соседству с казачьей, раскинулась возле дороги между Владикавказом и Алагиром. Золотишко у горцев в загашнике, видать, имелось, земли были вокруг хорошие, и «замиренные» не очень-то и отчаивались.
За эту экспедицию, в которой Андрей играл роль карателя, великий князь наградил его орденом Владимира, и Карабанов невольно подивился той легкости, с какой отвоевал он себе высокий знак отличия.
Баязет теперь далеко – там было не до орденов!..
«А здесь – боржоми, резиденция его высочества, – вяло размышлял Карабанов. – По-волчьи жить – по-волчьи выть…»
Здоровье, сильно подорванное во время «сидения», возвращалось к Карабанову неохотно. Он часто смотрел на себя в зеркало: впалые щеки с бледной синевою, в больших влажных глазах лихорадочный блеск, а на утонченном от страданий носу ноздри сделались выпуклее, нехорошо раздутые, что ему самому казалось весьма неприятным.
По вечерам Андрей отворял окно в парк и садился в качалку перед звездным квадратом неба. Парк медленно оживал. Мелькали в темноте зарослей платья фрейлин и служанок. Трещали заборы под натиском неосторожных любовников. Карабанов смотрел на чужие шашни из окна адъютантских покоев спокойно и равнодушно – как мудрый, все изведавший старец, нисколько не волнуясь, совсем без зависти.
Сейчас его тревожило другое – почти гамлетовское:
– Быть или не быть? Если быть, то почему же до сих пор молчит наместник? Я же не могу сам навязывать ему свои желания…
Ватнин появился вдруг совсем некстати. Однако Андрей обрадовался его приходу.
– А-а, есаул, борода ты моя разлюбезная! Здравствуй, Назар Минаевич, здравствуй, золотко мое…
Они трижды облобызались, крепко обнявшись, постояли молча, вспоминая тяжкое былое. Потом сотник ласково отпихнул поручика от себя, заметил владимирский орден.
– Эк тебя угораздило! – сказал без зависти. – За што же это тебя так отличили?
– Пустое все, есаул, – застыдился Карабанов. – Вот этот крестик, за Баязет полученный, это к месту пришито. А сей знак… сдуру! Дуракам везет…
– Ну, не скажи, – протянул Ватнин. – Дураком-то тебя не назовешь. Ты любое лыко в строку увяжешь. Приехал я вот, посоветоваться нам надобно.
Они стояли возле калитки, у входа в парк.
– Так пройдем, – предложил Карабанов.
– Не-е, – замотал бородой Ватнин, – необучен я ступать в такие палаты.
– А ты плюнь. Здесь только вшей нету, а живут грязнее, чем в казармах игдырских. Я-то уж присмотрелся…
Он провел его в свои комнаты, угостил сотника вином.
– Ну, рассказывай, что случилось?
– Некрасова, – ответил есаул, отворачиваясь, – под арест взяли. Штоквица как-то на вокзале встретил. Говорит, что посадят академика нашего…
Карабанов поплотнее прихлопнул дверь.
– Жаль! – сказал поручик, и ему действительно было сейчас очень и очень жаль этого умного, хорошего человека. – А только ведь, есаул… Ну чем я могу тут помочь?
– Да можешь ведь, – с мольбою посмотрел на него Ватнин.
Ознакомительная версия.