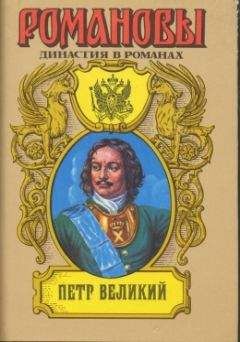С тех пор Софья всё чаще стала захаживать в опочивальню и так умело и ласково прислуживала брату, что Феодор Алексеевич не мог уж обходиться без неё. Вначале нарочито робкая, пугливая, Софья понемногу стала как будто привыкать к мужскому обществу, принимала участие в делах государственности, каждый раз поражая брата недюжинным умом и находчивостью.
– Гляжу я на тебя, – нежно ласкал он то и дело царевну, – и всё к чему-то воспоминаю сказы о прадеде нашем Филарете[22]. Сдаётся мне, в него ты пошла крепостью ума и державным духом.
Многим боярам не нравились заведённые в Кремле новшества. Они почти открыто роптали и даже ходили с жалобою к патриарху. Но Феодор только усмехался благодушно и ещё больше баловал сестру милостями. На защиту царевны против боярского гнева поднялся ближний боярин, князь Василий Васильевич Голицын[23]. Он не давал никому сказать худого слова про Софью, издевался над «азиатским дикарством» вельмож и повсюду носился с именем покойного начальника Посольского приказа Ордын-Нащокина[24].
– Вот вы кичитесь племенем-родом, а был Нащокин неродовит, да гораздо учён. И не зря сказывал он, что не в грех добрые дела у иноземцев перенимать да на Русии сеять. От того не убудет нас, а и прибудет ещё во славу державы царской.
Феодор Алексеевич строго, точно совершая таинство, поддакивал любимому боярину и во всём соглашался с ним.
– Ежели все повести, как издревле велось, то и тебе, Василий, выходит, уж и по-латыни негоже со басурманы беседы беседовать, а и мне по-ляшски[25] книги грешно вычитывать. Нешто не так я сказываю?
– Так, государь. Воистину так, – прикладывался Голицын к худой и жёлтой царёвой руке.
– Ещё бы не так, коли устами херувимскими твоими глаголет Господь, – вкрадчиво вставляла царевна и благодарно заглядывала в глаза князю Василию.
Бояре смирились.
– А плетью обуха не перешибёшь, – рассудили они. – Нам же то не в помеху. Как жаловал нас государь милостями допрежь, так и ныне всех нас примолвляет…
Князь Долгорукий долго стоял у двери опочивальни, не решаясь войти. Наконец дверь отворилась, и на пороге показался лекарь Даниил Гаден[26].
– Скоро ли ты отчародействуешь, жидовин? – брезгливо посторонился от лекаря князь.
Бледное лицо Гадена болезненно передёрнулось, в глазах засветилось странное выражение обиды, покорности и какой-то жалости не то к самому себе, не то к Долгорукому.
– Меня зовут Даниил, – произнёс он слабым, чуть вздрагивающим голосом.
Долгорукий грубо оттолкнул его:
– Как ни ксти душу поганую, а все жидовином застанешься.
И князь вошёл в опочивальню. Слышавшая его слова Софья погрозилась:
– Не поносить вместно лекаря, а в пояс кланяться. Денно и нощно дозорит он подле государя и великую лёгкость в недугах приносит умельством своим.
Князь передёрнул плечами.
– А коли воля твоя, то молчу. Токмо, сдаётся мне, не зазорно ли высокородному князю русийскому кланяться в пояс жидовину поганому?
– Кой он жидовин! – вмешался духовник царя. – Он Христа исповедует. А ещё недугующих исцеляет, живота не жалеючи, труждается для людей.
Слегка приподнявшись на локте, царь любовно поглядел на сестру и священника.
– Так его, так его, чадушки. Помелом выметите из нутра его княжеского азиатское дикарство богомерзкое!
Лекарь вернулся с колбочками и склянками, опытною рукою приготовил снадобье, налил в ложечку, сам отпил первый, а потом поднёс к губам царя.
Кривясь и морщась, Феодор Алексеевич выпил жидкость, закусил жареным засахаренным миндалём и поудобнее улёгся.
Софья заботливо поправила пуховик.
– Не тревожит ли, братец мой государь?
– Отменно, Софьюшка! – сладко зажмурился Феодор Алексеевич.
Долгорукий стоял у окна и царапал ногтём слюду. Софья нетерпеливо поглядывала на дверь, очевидно, поджидая кого-то. Неслышно, затаив дыханье, пошёл из опочивальни лекарь. У двери он приостановился и, отвесив низкий поклон входившему Голицыну, шмыгнул в сени.
Тучное, заросшее маленькими чёрными волосками лицо царевны полыхнуло ярким румянцем. Узенькие, заплывшие жиром глаза засветились такой неподдельною ласкою, что князь невольно, с такою же искренностью, поцеловал её руку. На жирном обрубочке носа Софьи затокала чуть видная синяя жилка, а тучные груди так высоко вздымались, как будто хотели разодрать скрывавшую их ткань польской кофты.
– Как почивать изволила, царевна? – низко поклонился Василий Васильевич Софье Алексеевне.
– Ты как почивал? – неожиданно ухмыльнулся царь и лукаво подмигнул.
Взволнованная царевна поднялась с кресла и грузно шагнула к окну.
Священник перекрестил царя и, не глядя на Софью, почти выбежал в сени.
– То он от соблазна прочь пошёл, – хихикнул царь.
Князь застенчиво опустил голову и промолчал.
Наступило время сидения. В опочивальню чинно входили бояре, долго крестились на образа, кланялись земно царю и, дождавшись приглашения, садились вдоль стены, на обитую атласом с золотыми гривами, лавку.
– Не покажешь ли, государь, милость, не повелишь ли к сидению приступить? – торжественно, как полагалось по обряду, приподнялся Голицын.
Феодор раздумчиво поглядел на жёлтые пальцы.
– И всё-то вы с государственностью. Опостылело. Недугую я. Тут впору не государственность вершить, но в монастырь на постриг идти, а там и ко Господу.
Ближние сорвались с мест и пали ниц.
– То не царь сказал, то ветру ветер внял. Ветром разнесло, в поле размело. Тьфу, тьфу, тьфу! Сухо дерево, завтра пятница, – дружно прочитали они заклинание и, поднявшись, рявкнули остервенело: – Словеса сии никому не в помеху, государю же нашему мно-о-о-гая лет-та!
Польщённый царь милостиво допустил всех к руке, перекрестился, лёг на бок и, подложив под щёку ладонь Софьи, открыл сидение.
– Со Господом, други мои.
Подьячий достал из мешочка, болтавшегося на животе, пузырёк с чернилами, привстал на колено и, расправив бумагу, приготовился к записи.
Василий Васильевич покрутил холёные, напомаженные усы.
– Сказ мой невелик, – поклонился он Феодору Алексеевичу. – О крестьянах мой сказ.
Ближние заёрзали на местах.
– Поколику показал мне Господь милость великую и научил многим наукам и языкам, – продолжал князь, обмахивая высокий свой лоб надушённым платочком, – стало во власти моей постичь, каково ведётся в землях иных управление государственностью.
– Затянул домрачейную, – едва внятно прошепелявил Иван Михайлович Милославский[27].
Софья зло прислушалась, но, не уловив слов, промолчала. Пётр Андреевич Толстой многозначительно переглянулся с братом своим Иваном[28].
– И в думках ночей недосыпая, – плавно, точно по-писаному, растягивал Василий Васильевич, – дошёл я, с Божьей помощью, к истине.
– Занятно! – уже вслух, не скрывая насмешки, отрубил Милославский.
Государь выронил из пальцев зеркальца и надулся.
– Погоди ты, егоза! Хоть ты и кровный мой, а чина сидения не рушь!
Певучая речь Голицына убаюкивала царя, он не слушал слов, о чём-то думал, мечтательно перебирая зеркальца. Вставка же Ивана Михайловича вернула его к яви. В другое время не миновать бы беды, плохо пришлось бы боярину то, что он оторвал царя от любимой забавы. Но Феодор Алексеевич на этот раз сдержался: было неловко показать людям, что он несерьёзно относится к сидению.
– Сказывай, Василий, не внемли ему!
– А истина, вот она вся, – уже без всякого вдохновениия скороговоркой отбарабанил Голицын. – Крепость крестьянская не в корысть, но в оскудение государству. Добро изничтожить крепости на крестьян, да коим наделом пользуются ныне они, то и оставить за ними на вся врём…
Точно от ворвавшегося внезапно ветра высоко подпрыгнули красные язычки лампад.
Князю не дали закончить, неистово набросились на него голодными псами, у которых вздумали отнять добычу.
– А не бывать тому, чтобы Богом данные господарям людишки отдельно от господарской воли живали!
Никогда ещё, за все шесть с лишним лет царствования, никто не видел такого бешеного гнева царя. Во второй раз за один час нарушили мечтательный покой его.
– Вон! – вопил он, срываясь с постели. – Лишаю! Всего лишаю!
Никакие мольбы Софьи не помогали. Царь метался по терему, опрокидывая всё на пути, дико ревел, хватал ближних за бороды, волочил их по полу, топтал ногами и изрыгал на весь мир самые страшные, какие только знал, проклятья.
Наконец силы оставили его Он вдруг отяжелел, опустился и, растопырив руки, упал.
Бояре столпились у выхода и угрюмо молчали. Подоспевший Гаден возился подле царя с какими-то снадобьями.
– Не отменить ли сидение? – спросил, ни к кому не обращаясь, Иван Михайлович.