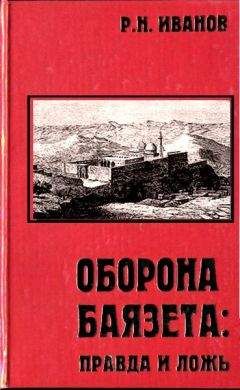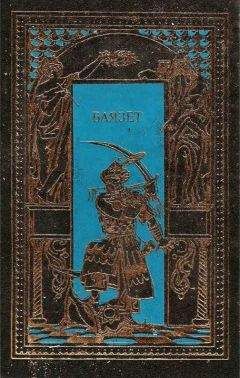Повелитель Вселенной, прежде чем пустить свои стрелы в грудь врага, пробивал его сердце слухами. Слухи порождали страх, сомнение сивасцев в своих силах, а сомнение в своих силах готовит победу противнику.
Слухи, которые шли из харчевни Хасана, перекрещивались со слухами, шедшими из старинной бани, где нежился Мулло Камар, а две вести, услышанные в двух разных концах города, становились истиной.
Так уже в первый день вступления в Сивас Мулло Камар взволновал город, одних усомнив в могуществе Баязета, а других убедив, что не на мощь городских стен, а лишь на милосердие аллаха надо уповать, если сюда придет Тимур.
Мулло Камар, наговорившись, поглядывая по сторонам, не видя больше никаких достойных собеседников, покряхтывая, заботясь, как бы не поскользнуться на мыльном полу, осторожными шажками, слегка приплясывая, отправился в предбанник: давно прошло обеденное время и, как поется в песне, «роза затужила без росы».
За снедью можно было послать кого-нибудь из служек, но сперва достав деньги из кисета, оставленного под одеждой, да и накинув одежду, ибо не честь почтенному человеку голышом садиться за трапезу.
В предбаннике хлопотал тощий банщик, тяжело дыша через открытый рот. Кроме него, никого здесь не было: одни ушли до дождя, другие пережидали непогоду в глубине бани, новые посетители не приходили — никому не хотелось шлепать по мокрети под дождем.
Дождь же щедро шумел за порогом. Одежда лежала грудами по всей длинной скамье, а банщик тряс ее и складывал стопками, жалуясь, что из-за дождя пришлось с веревок наскоро снять белье сырым и теперь никак не разберешься, какое чье и откуда взято.
Груда сырого, холодного белья пахла не то гнилыми овощами, не то псиной — чем-то тяжелым и неприютным.
Мулло Камар уверенно пошел к своему узлу, но под халатом не нашел ни своей рубахи, ни штанов, хотя красный сафьяновый кисет, подвязанный к поясу, как был положен, так и лежал.
Усаживаясь влажным задом на теплый мрамор скамьи, Мулло Камар велел банщику:
— Ну-ка ищи-ка белые холщовые. Сверху под пояс обшиты красной каймой. А рубаха по круглому вороту обшита зеленой кромкой.
Байщик услужливо заспешил, высоко подкидывая штаны, рубахи, пестрые лоскуты портянок.
Взлетев в просторных руках, как птичья стая, вся одежда снова раскинулась по скамье.
Мулло Камар нетерпеливо сам подошел к банщику. Порывшись в сыром ворохе, нашел свою рубаху. Штаны же, как он ни перебирал одну вещь за другой, не находились.
Банщик, хотя и с опаской, покорно еще раз разглядел всю одежду на обеих скамьях, даже ту, которую он и не стирал. Штанов не оказалось. Их не было.
Банщик пояснил:
— Кто-нибудь надел вместо своих. Тут сегодня многие торопились: говорят, нехорошие слухи пошли, да и от дождя спешили домой поспеть. Да и вам почему бы не взять другие? Не все ли равно, у всех они одинаковые. Шелковых у нас тут никто не носит.
Мулло Камар не мог ему объяснить, что во всем городе не было таких штанов, какие он согласился бы взять вместо своих — в них была зашита могущественнейшая пайцза Тимура, медная бляха, открывавшая путь сквозь любые воинские заставы и караулы, по всем дорогам Мавераннахра, по всем завоеванным землям, по всей вселенной!
Совсем недавно она плотно лежала у него на ладони, круглая, вычеканенная из червонной меди, с грозной надписью: «Амир Тимур Гураган указал: кто воспротивится помогать нашему посланцу, будет казнен и умрет».
А в середине, где, бывало, чеканили монгольское тавро, похожее на якорь, значились три кольца — тамга самого Повелителя Вселенной, амира Тимура Гурагана!
Чуть побольше медных караханидских дирхемов, подернутая радужной патиной, нагаром, расцветившим медь от пережога при ковке, похожая на прежний большой посеребренный почернелый караханидский дирхем.
И вот эта-то пайцза, открывавшая купцу все пути, все караван-сараи, все ворота городов, исчезла вместе со штанами.
Мулло Камар вздрогнул, вдруг поняв, что теперь он уже не тот человек, каким вошел под эти темные своды, уверенный в своем превосходстве над всеми, кого бы ни увидел здесь! Он беседовал, втайне насмехаясь над каждым из собеседников. Он один знал, во что превратятся они, когда город оглохнет от топота Тимуровой конницы, от рева воинства, врывающегося в город.
Но во что без пайцзы превратится он сам, когда ворвутся сюда те непреклонные конники?! Чем он остановит первого же воина, если тот замахнется мечом или копьем?! Всего несколько мгновений назад он ждал прихода Тимуровых войск как желанного праздника, теперь же немыслимо стало даже думать о страшном дне, когда они ворвутся в Сивас. А они ворвутся!..
Не бежать ли отсюда в глубь Баязетова царства, притаиться где-нибудь в Смирне, где-то там? Или пока Тимур стоит спокойным станом и караулы могут вникнуть в слова смиренного человека, обратно переползти через ледники на ту сторону. Но как явиться туда без пайцзы?
Куда она девалась? В чьих руках она сейчас? Знает ли тот, кто ее держит, что держит в своих руках дорогу, открытую и беспрепятственную, на все стороны света, через все войска и заставы самого Повелителя?!
Или тот недоумок сидит и дивится помехе, появившейся в штанах, и досадует, и просто вырвет ее и бросит прочь. И некому его надоумить!..
И Мулло Камар тут вспомнил с досадой и со страхом пророческие слова длиннобородого старика:
«Ничто, как воля аллаха!..»
4
В чужих тесных штанах, прилипших к ягодицам, поеживаясь от их сырости, Мулло Камар одиноко спешил под густым дождем по пустой улице, суетливо, оступаясь в лужи и тем забавляя всех, кто посматривал на размокшую дорогу из-под навесов или из лавчонок.
Впервые за всю жизнь он так торопился и впервые не знал, куда идти.
Вдруг он остановился. Потоптался среди луж и так же торопливо или еще прытче прежнего заспешил назад: ведь кто-то ушел в его штанах. Надо скорее узнать, кто же ушел, а это могут вспомнить только в бане.
В предбаннике сидели, остывая и лениво одеваясь, люди, которых, уходя, Мулло Камар здесь не видел. Он видел их голыми и поэтому теперь не мог узнать: теперь их покрывала одежда, лица их утерты, бороды расчесаны.
Мулло Камар приметил на штанах одного из армян под поясом такую же красную обшивку, какая была на пропаже.
Он бы не замедлил ухватиться за них, но пощупать то место, куда он хитро зашил пайцзу, нельзя было: не то это место, чтоб соваться туда чужой рукой.
Он смог только хрипловато спросить:
— Откуда у вас штаны, почтеннейший?
Армянин, закрутив красными, не то распаренными, не то воспаленными яростными глазами, оторопел:
— Что? Что?
— Эти вот штаны…
— На трогай! — отшатнулся армянин, поджимая ноги и отползая вдоль каменной скамьи.
Но Мулло Камар наступал:
— Откуда они?
— Не тронь! Это мои!
Одевавшийся рядом с армянином плотный степенный турок спокойно удивился:
— Зачем кричишь? Он тебя еще не тронул.
— А тронет, тогда поздно кричать.
— Я не трогаю. Я про штаны, почтеннейший. Только про штаны.
— Знаем! Сперва хватаются за штаны… Я не такой! Отстань!
Мулло Камар спохватился:
— А банщик где? Который с бельем?..
Турок медленно моргнул в сторону входа.
— Разделся и пошел мыться.
— А как мне его оттуда вызвать?
— Из нас никто туда не идет, мы уже оделись.
Мулло Камар заспешил раздеться, скидывая без всякого порядка одежду, а когда остался только в тесных чужих штанах, непристойно его облепивших, вернулся к армянину.
— Почтеннейший! Вы сами себя пощупайте.
Армянин, торопившийся уйти из предбанника, вскочил.
— Ты опять? Я людей позову…
— Вот они, люди. Зови. Но сперва пощупай вот тут: ничего там нет?
В ярости, кое-как обматываясь кушаком, армянин выскочил на улицу и, уже стоя на мостовой, прорычал:
— Ну! Подойди. Подойди!..
Тогда Мулло Камар, снова скользя по мыльным плитам, кинулся в непроглядный пар под черные своды.
Здесь по-прежнему многие лежали, не спеша выходить в сырой холод вечереющего дня.
Светильники потрескивали. Красноватые отблески беспокойного пламени струились вокруг, как ручей по камушкам, дробясь и переливаясь. В таком свете лица людей, непрерывно изменяясь, то будто смеются, то скорбят, то ужасаются, как каменные маски, какие остались кое-где в Сивасе на иных из мраморных плит. И как тут узнать среди обнаженных того, кого видел одетого, ставшего без одежды ничем не приметным.
Приметы банщика? Бороденка неприглядна, как у большей части людей. Ведь добрая борода, как и красота, как и ум, ниспосылается аллахом не первому попавшемуся, а по неизъяснимому выбору, непостижимому для смертных, хотя не каждый избранник ценит, не каждый сознает эту щедрость, излитую на него.