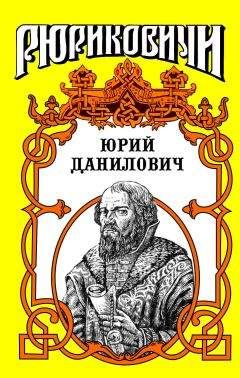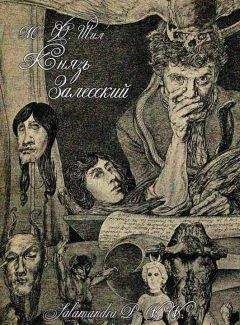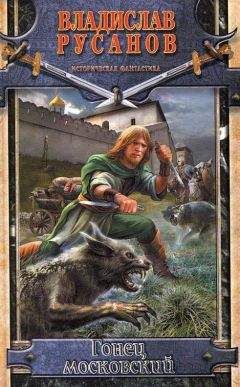(Эх, знал бы Дмитрий Александрыч, для кого тот Переяславль выручает, поди, не так спешно кинулся его выручать, если бы вообще кинулся…)
А в том, что переяславцы встанут за него стеной, а если понадобится, то и лягут костьми, Дмитрий не сомневался. Да так бы оно и было, однако о том, что Дмитрий тайно вышел из Пскова, стало известно Андрею - шишиг[27] на Руси всегда хватало.
Андрей с новгородцами нагнал брата где-то возле Торжка. Силы были слишком неравными. Но малая переяславская дружина, сопровождавшая Дмитрия, сделала последнее и единственное, что могла сделать для князя: пала под железом новгородцев, а всё-таки дала ему уйти от погони.
Ах, как дёргал шеей Андрей, ах, как кривил злобно морду, когда собственноручно искал среди мёртвых тело брата, искал и не находил!
А Дмитрий укрылся от брата у Михаила Тверского. Если когда и было меж ними зло, то Михаил того зла Дмитрию не попомнил. Напротив, принял все возможные меры к тому, чтобы если не примирить братьев, что было невозможно по сути, то хотя бы восстановить некое подобие справедливости.
В Торжок к Андрею было отправлено тверское посольство во главе с архиепископом Симоном. Как там сладилось, сказать трудно. Что более смирило Андрея - заступничество Михаила или сам вид некогда великого, недоступного в доблестной выси, а ныне раздавленного, сломленного, побеждённого брата, - неизвестно. Однако главное было достигнуто: Дмитрий отказывался от каких-либо притязаний на великий владимирский стол (да какие уж там притязания, когда по всему было видно, что уже из могилы отказывался ото всего Дмитрий), Андрей же возвращал Дмитрию отчину, отпускал из Костромы Ивана, а складнику своему Фёдору Чёрному велел оставить Переяславль…
К слову сказать, уходя из Переяславля, не иначе как от сильного огорчения, Фёдор подпалил его с четырёх концов. Русский-то народ прозвания недаром даёт - уж коли Чёрный, так Чёрный.
Но о той последней досаде Дмитрий Александрович не узнал. Видно, напоследок Господь смилостивился к нему: он умер по дороге на Переяславль возле Волока-Ламского, успев принять долгожданную схиму.
Вот вроде и все, что касается взгляда назад.
Да, вот ещё что: князь Андрей после смерти брата неожиданно изменился. Притихшая Русь ждала новых буйств, новой крови ради упрочения власти, но ничего такого не дождалась. Андрей стал сер и уныл, жил, словно его и не было. Как будто со смертью брата и в нём какая жила оборвалась. Все ему теперь стало пресно…
А что касается власти, так он и вовсе не знал, что с нею делать. Оказалось, она ему не нужна. Помаявшись без дела в стольных своих городах Великом Новгороде и Владимире, не найдя для себя забот на Руси и предмета для новой зависти, окончательно заскучав, Андрей Александрович женился на дочери ростовского князя Дмитрия по имени Васса и вернулся в свой родной Городец…
Пошто и выезжал из него? Пошто? Всё это пошто?
Ведь как ни крути, не больно-то и понятно, ради чего всю жизнь враждовали братья? Из какой злобы и зависти?
Пошто злоба - ведь братья!
Пошто зависть, если власть - бремя?
Ужели лишь от одной человечьей низости всю Русь терзали в кровавые лоскуты?
Ужели Русь так не ценна в глазах её безумных правителей, что стоит не выше их тщеславия, злобы и зависти?
Тогда чего ж она стоит?
Да, разумеется, через ту зависть и злобу татары вершили своё главенство, но разве татары виной в нашей братской злобе и братской зависти? Что татары? Тоже люди суть, хотя, конечно, и нехристи, прости Господи.
Но, как оглянешься назад повнимательней, так и кинет в оторопь: не то, все не то! Не должно так было быть! Так отчего же так?..
И вдруг, как слепец, обжёгшись о нестерпимый свет, прогреешь на миг и поймёшь: от давнего того века ИНЫЕ СИЛЫ избрали Русь полем битвы, где бьются не добрый со злым, а ЗЛО с ДОБРОМ…
Чем-то кончится?.
мутно декабрьское утро. Гаснут последние звёзды. Тихо на Москве. Тихо в княжеском тереме. Лишь изредка скрипнет вдруг сама по себе тёсаная сосновая доска, коей и пол настелен и стены обшиты - верная примета на путь.
Жаждет пути Даниил, и хоть в иной час чуток к приметам, ныне к ним глух, не слышит ни скрипа, ни мышиного писка, ни как огонь бучит, брызгая искрами. Не до бабьих примет. Знает Даниил: долог, увилист, каверзен и кровав будет тот путь, что избрал, и на том пути один лишь заступник - Бог, у Него и просит на путь тот благословения, заранее каясь, заранее отмаливая грехи. И свои, и чужие…
В небольшой обыденке[28] перед тёмным ликом Спасителя в бронзовой масляной плошке чадно потрескивает пеньковый фитилёк - вот-вот загаснет. И тогда густая предрассветная тьма выступит из ближних углов, в один глоток сожрёт слабый свет. Надо бы кликнуть людей, возжечь огни, да неколи молитву прервать. С полночи Даниил с колен не встаёт, уж ног под собой не чует. Вестимо: ночная молитва паче дневных молеб - скорее путь к Богу отыщет.
«Господи, Иисусе Христе, прости мне гордыню мою и помыслы честолюбивые! Прости мне грехи мои предбывшие и грядущие, зряшные и нечаянные, и… непростимые! Потому что знаю, на что иду! Но пред Тобой не за себя ратую - за сынов, за людей московских! Ведь знаешь, не кровью я поднял этот град из праха безвестности - трудом единым! Как утвердить сей труд без греха?
Укажи, дай путь безгрешен, Господи, и я пойду по нему! Дай путь, Господи!..»
Надолго умолкает Даниил, вглядываясь в строгий непроницаемый лик, словно и впрямь ждёт ответа - простого и ясного.
Молчит Господь.
«Что ж, война, Господи? Так дай сил на войну! Не ради единого примысла, но ради достоинства московского! Не нами заведено, что честь-то на страхе держится!
Но не тот враг, на кого иду, а тот, кого хочу одолеть! Сыт он, но не умерился в жадности, тих он, но злобен, ибо нет меры для злобы бешеного - кусать будет, пока дух не испустит! Знаешь ведь, Господи, не клевещу на него! Прости мне помыслы грешные и дай сил одолеть врага - брата единоутробного! Верую во славу Твою!
Дал же Ты Андрею в наследники Бориску слабоумного! Пять лет дитю, а он слюней подобрать не может, только мычит, как юродивый! А других сынов Ты ему не даёшь! То ли не знак Твой, Господи? Али Бориска-юрод над Русью подымется?! А у меня сыны, и от тех сынов ещё сыны будут - вот она сила и власть наследная! То ли не знак Твой, Господи?»
Вновь умолкает Даниил, вновь ждёт неведомого ответа, вперясь мутным, уставшим взглядом в иконостас. Но тёмен лик за искусной филигранью серебряного оклада, тускло мерцающего в отблесках потухающего огня. Молчит Господь.
«Дай мне силы на власть! Я удержу Русь ради Москвы, ради сынов моих! Дай мне успеть, Господи, встать над Андреем хоть после смерти его - и отмолю грехи, и отплачу Тебе, Господи, великими храмами, каких нет ни в одной земле, монастырями многими ради люди Твоя и то сынам заповедую! И, Господи, город сей опорой будет Тебе на все времена! Но помоги же мне, Господи…»
Угасает огонышек в бронзовой плошке, но кажется Даниилу, чем слабее свет от огонышка, тем явственней проступает молитвенный образ. Словно светом Небесным озаряется лик. Рука Спасителя поднята в благословляющем жесте, но вдруг в заполошном метании узкого язычка пламени видится Даниилу в том жесте не благословение, а грозное предупреждение:
«Не делай того, человече! Остановись! Неправду творишь!»
- Правду, Господи! - истово крестится Даниил.
В обыденке жарко, излиха натоплено ещё с вечера, но лоб князя покрывают холодные, точно смертные, капли пота. Надо бы подняться с колен, надо бы кликнуть людей, возжечь огни, чтобы вокруг стало светло, а на сердце ясно и твёрдо, как было ещё вчера!
Только нет сил оторвать взгляд от глаз Спасителевых, от перстов его тонких, вскинутых не то в благословляющем, не то в гневном жесте. Да нет сил просто вздохнуть, точно жаба подступила под горло и душит.
- Дай сил, Господи! - хрипит Даниил и падает ниц перед молчаливым иконостасом.
Сколько так пролежал - не помнил. Только когда открыл глаза, ужаснулся: тьма обступила его. Но не смертная тьма - хуже смертной, - отвернулся Господь от князя. То ли не Знак ему, грешному, - погас пред божницей огонь!
«Не слышишь, Господи! Не хочешь помочь слуге Твоему?!»
Даниил с трудом оторвал от пола лицо, поднял взгляд на Неподкупный иконный лик и обомлел: от глаз Иисуса струился свет!
Может, дальний отблеск последней на небе звёзды запоздало проник в оконницу, может, первый рассветный луч робко взошёл над ночью. Не растворяя тьмы, отблеск тот или луч падал на лик Иисуса, и в том сером холодном неверном свете ярко горели глаза Спасителя!