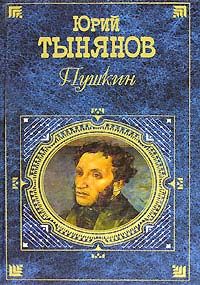И он увидел однажды – на восьмой день – ясно: он несчастен, и счастье невозможно. Что было бы, если бы он написал об этом?
Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса сознаться смеет.
В страсти. И ему стало легче. Таков он был. Вовсе это не была лицейская любовь. Страсть. И он не смел признаться в ней. Самому себе. Кончились лицейские упражнения, страхи, тайна. Страсть владела им. И был страх перед страстью.
Она теперь сама себя не понимала. Она была недовольна собою, недовольна божеством, которому сама принесла в жертву свою жизнь, свою молодость. Увы, где она, эта молодость? Она стара, и только внимательность, прилежное терпение великого мужа оставляют ей молодые часы. Старость ее молода. Все бы хорошо, да сегодня она вспомнила взгляд Авдотьи, простой, без выражения, по которому она сразу увидела, что Авдотья обратила на мальчика внимание. И она вспомнила, как Пушкин вдруг быстро и потерянно на Авдотью поглядел, почти так же, как тогда, как плакал. Ей просто жаль было его, как ребенка. Но мальчик удивительно горяч, без ума от внезапных, шалых страстей. И она почувствовала, что ни за что его Авдотье не отдаст. А поняв это, осердилась на себя. Пушкин вел себя вполне пристойно и даже под конец не шутил, что часто выходило у него неловко, бурно. И она придиралась к себе, заметила, что и этим недовольна.
Николай Михайлович ежедневно уезжал верхом по грибы. Она с почтением смотрела на его посадку в седле. Стоило только держаться в седле понебрежнее – все бы сказали, что он скачет как молодой, как гвардеец. Куда там! Он проезжал как умный, великий человек, но отвык, и его прекрасная посадка была хороша, но чуть смешна. Без него она уходила иногда. Здесь дворец ограничивал собою все. Она уходила из китайской хижины, из живописного, хоть и скудного места, смотрела памятники.
Пушкин после своего беспричинного громкого плача, которым вдруг себя осрамил, не смел к ним показаться. Он бродил кругом, то здесь, то там. На седьмой день он стал задыхаться.
Между тем, шатаясь, пока Энгельгардт не показывался, занятый одною, только одною мыслью, он приучил себя с принужденным вниманием смотреть на царскосельские, или, как еще старики говорили, сарскосельские, памятники.
И однажды они встретились, столкнулись случайно, нечаянно. Он вдруг ее увидал. Она, привыкнув к корректурам мужа, увидела памятник, всем похожий на ее корректуры. Это был монумент Румянцеву-Задунайскому. Черный лист с выпуклыми буквами был памятью славной битвы Кагульской. И в этом листе говорилось, как в точной исторической памятке, которых столько она прочла и правила в «Истории государства Российского». Она прочла все с начала до конца и оперлась о чугун. Было жарко, а здесь холод от чугуна. Она коснулась его, провела пальцем по какому-то имени. Пушкин увидел ее вдруг – и вдруг рванулся к ней, как конь, стиснутый шпорой.
Она обрадовалась ему, немного сильнее, чем можно, чем сама ожидала.
Вдруг, задыхаясь, обняв ее стан, он стал опускаться и, упав, прижался губами к ее узкой стопе. Она закрыла глаза, кажется.
Он ничего не говорил, лежал у ее ног, и она не нашлась, как и что сказать ему. Он обезумел. Поднявшись, задыхаясь, он от нее не отрывался. Он не обнял ее. Он пал к ее ногам как подкошенный, как падают смертельно раненные.
Не раз и не два, днем и под вечер стал он приходить к Кагульскому чугуну. И прочел весь список Кагула – подробный список победных деяний, весь подробный список героев Кагула. Среди них было имя Аннибала Ивана Абрамовича, которому он обрадовался. Он прочел весь лист назавтра. В этот день он ни о чем не думал. А возвращаясь от Кагульского чугуна, вдруг засмеялся. Он не умер, не сошел с ума. Он просто засмеялся какому-то неожиданному счастью. И, пришед домой, он всю ночь писал быстро.
Она ничего не сказала своему великому мужу – его покой был слишком дорог. А Пушкин – мальчик, безумный. Ей было жаль его.
И она постаралась поскорее забыть о себе у Кагульского чугуна. Она вдруг поняла, что поступила верно – который раз! – когда решила не отдавать его Авдотье. Как он на нее взглянул тогда – сразу покорился! Он погиб бы. А давеча как упал к ее ногам. Точно раненный насмерть! Все же он не умер. И она засмеялась, как давно уже не смеялась, покраснев, полуоткрыв в смехе губы.
Как он пал к ее ногам! Точно раненный насмерть. Все же не умер, жив, и стихи его живы. Так живы, что, когда давеча читал, она потупилась, точно прочли чье-то письмо, к ней написанное. Не умер, живехонек!
Она покраснела от радости.
Никто не мог бы, никто не посмел бы сказать, что он пропустил Карамзина. Разве стихи его остались бы теми же, не сделались бы другими? Но ведь они каждый день делались другими.
Однажды Карамзин спросил его, как пишется, готова ли его поэмка.
Увенчанный славою, первоклассный, уже ощущающий горечь на дне поэтической жизни, он спрашивал его просто о новой, только начавшейся поэме и явно интересовался ею, знал ее, потому что называл ее поэмкою.
Да, шаг за шагом, терпеливо, настойчиво шел он за Карамзиным и писал эту поэмку, умную, с этой легкою, мудрою усмешкою, вполне готовую к тому, чтобы сравниться с лучшими стихами, поэмами Карамзина. Он олицетворил эту тонкую усмешку в поэме в лице героини и назвал ее Зоей. Эта Зоя должна была быть совершенной умницей. Она вовсе не собиралася в ответ на благодарность героя погубить свою жизнь.
За спасибо в темну яму сесть.
Мудрость полурешений была в поэме лукавою и истинно милою.
Нет, он чутко внимал Карамзину и шел за ним. Он изгнал рифмы из поэмы, чтобы в стихах была честность прозы. И, доведя эту умную, эту умненькую сказку до поворота, не захотел ее читать и думать о ней.
Он вдруг научился пропускать. Рифма доказывала верность мысли. Как писал без рифмы – писал, боясь проверки. Рифма была некогда богиней. Ум? Не ум, а разум. Самое высшее доказательство истины, самый ясный разум – была любовь. Не любовь, а несчастье стерегло его. И все же. Все же да здравствуют музы, да здравствует разум! Уже пять дней и две ночи писал он новую поэму. Рифма, любовь – и не половинная – разум. А история русская – ее творили Карамзины для него.
Рифма. И любовь, как рифма. Не половинная, не мысленная любовь. Не усмешка ума, муза и разум да здравствуют!
История русская, родина русская, стародавняя. Рифма была проверкою верности мыслей. Проверкою верности событий истории русской, родины – была любовь. Да, он у Карамзиных учился – у Катерины Андреевны Карамзиной. Как часто ворчал он на отечество, когда канцелярии свистом перьев писали о нем. Не поэмка, поэма началась. История земли русской – творение Катерины Карамзиной.
Когда он упал неожиданно к ее ногам, когда у Карамзиных плакал бурно, он вдруг понял и почувствовал: есть одно лекарство от этого. И, встав, пойдя долгим путем, задумался и вдруг засмеялся.
23
Архимандрит Фотий был весел сегодня. Геенну на него призывали. Так нет – накося, выкуси! Он был ловец человеков. На грех ловил, на наживку шли. Он излечит, он вылечит. Он чуял грех, как пес чует дичь. Недаром он теперь правит Юрьевецким монастырем – дали ему. Нищему – нищую обитель.
Превознес, возвеличил, ибо чутьем берет.
Вчера сказали: Голицын-ирод впал в немилость. Исайя, ликуй! У него грехи все собраны.
Он видел Анну. Орлова-Чесменская. Легко ли! Полумиром владеет.
Так он ликовал.
Анна Орлова, дочь Алексея Орлова, который одним часом стал счастлив – примчал из Петергофа Екатерину, убил за трапезой Петра Третьего, всю жизнь любил забаву, кулачные бои, как мальчик, как дитя. Алехан – звали его братья. Теперь они с ней перестали видеться. Потому что здесь он! Фотий! Какие богатства остались! Юрьевецкий монастырь уже не монастырь, не братчина, не вотчина, он – государство. А все он, Фотий! Стал духовным отцом и самолично снял с нее грех. Даже слова не сказал! И прощенье не дает – пусть походит.
А теперь убрал Голицына, сластолюбца, хитрого мужеложца. А что было дьяволовой красы у Анны! Холотые статуи из Италии, древние – ценная комната! У него. Он расплавит. Анна смотрела, чтобы дядья не встряли.
А сегодня Фотий добрался наконец в Царское Село. Вот где грех в цене, вот где гуляет! Анна устроила это свидание. Там происходили события, которые только он, Фотий, полномочен решать. Император Павел убитый, не давал покоя. Фотий для высокого места припас клад – он травил рану у себя на груди. Разжигал ее. И теперь в любую минуту перед кесарем он, Фотий, явит видение – распахнет грудь и овладеет. Он завоюет!
Он спал теперь в гробу. Анна сделала и этот гроб мягким, теплым. Он рано встал. Сегодня он ликовал. Завтра – завтра овладеет Юрьевецкий монастырь – кем? чем? – Россией. Вот оно, время! Пляши!
Он взял притихшую Анну под руку и, как всегда теперь, стал напевать, петь, качаясь из стороны в сторону над графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской.
– Анно! Дево! Анно! Дево!
И стал тонким голосом все петь, все напевать, в восторге перед тем, что предстоит, – раскачиваясь, обняв ее, чтоб было поудобнее: