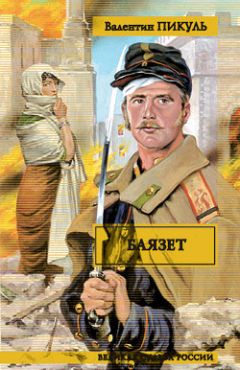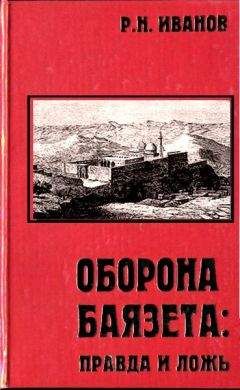Ознакомительная версия.
– Не знаю. Может быть, эти деньги у него как раз и были отложены для вас…
На следующий день прапорщик уже обзавелся новым одеянием для статской жизни. Посверкивая белоснежной манишкой, которая иногда туго выскакивала из-под сюртука, он отправился к госпоже Хвощинской; вдова полковника оставалась еще в Тифлисе, выжидая конца этой войны, чтобы потом вывезти прах супруга из усыпальницы Баязета в Россию.
Аглая Егоровна носила теперь глубокий траур, и право посещать ее в эти дни имел лишь барон Клюгенау.
– Здравствуйте, мой друг, – сказала женщина. – Чем же вы занимались вчерашний день, что даже не навестили меня?
Клюгенау, потирая ручки, слегка поклонился:
– О мадам! Вчера я продолжал совершенствовать себя, насколько это возможно в условиях нашего сумбурного века…
Манишка снова с треском выскочила из-под сюртука, и Аглая слегка улыбнулась.
5
«Пышная и светлоокая» блондинка, как было сказано в объявлении «Брачного листка», действительно была и пышной и светлоокой. Рослая молодая женщина, гордо несущая на себе красивые одежды, она держалась строго, почти недоступно, и заговорить с ней первыми мужчины побаивались…
Поезд отошел от станции Минеральные Воды, вытряхнув на перроны вокзала праздную толпу бездельников, и сразу же окунулся в знойное марево предгорных равнин. За окном вагона, утопая в душной пыли, проплыли богатые казачьи станицы – Виноградная, Аполлонская, Солдатская и Прохладная; приближался Владикавказ. Перроны станций были загажены арбузными корками, шелухой подсолнухов, грязные свиньи бродили среди мусульманских могил и православных крестов, разбросанных повсюду…
Среди пассажиров первого класса, в котором ехала и наша «светлоокая блондинка», половину вагона занимали блестящие свитские офицеры из Петербурга, которые, нисколько не стесняясь соседей, громко обсуждали все возможности отличиться.
Это были так называемые «моншеры» – самая нелюбимая в армии категория столичных титулованных хлыщей, которым время от времени давались командировки на поля сражений, где они сами должны были изыскивать способы для выказывания подвигов.
Вот один из числа подобных «моншеров», а именно – князь Унгерн-Витгенштейн, и рискнул было поволочиться в дороге за суровой блондинкой. Князь был молод и даже красив – той особой нагловатой сусальностью, какая отличала многих красавцев того века и которая, помимо наследственных качеств, казалось, еще многое переняла от строгой и мужественной подтянутости николаевских вахтпарадов. В белоснежном колете, весь нежно позванивающий от движения шпор, сабли и позолоты, князь Унгерн-Виттенштейн вежливо осведомился:
– П’остите за де’йзость, мадам. Но любопытно бы знать – далеко ли вы едете?
– Только до Тифлиса.
– О, как это п’ек’асно! Мы тоже де’йжим путь до Тифлиса. Конечно, потом… потом и дальше. На ф’онт, на ф’онт!.. Не откажите в любезности соп’овождать вас че’ез го’ы. А то ведь, гово’ят, эти че’йкесы… хуже па’ижских апашей!
– Не беспокойтесь, – отпугнула его спутница, – меня встречает отец. А с ним я не боюсь никаких чеченцев!..
Владикавказ – городишко уютный, добротный, чистенький. Сверкая на солнце белым камнем, лежит он в гуще садов, под шум Терека, мутно вспененного, подмывающего береговые осыпи. Отсюда начинался древний путь через Дарьял, мимо гор, мимо сказочных легенд, где путнику не миновать страхов и риска…
Горы уже насели, надвинулись на путников, раскрыв перед ними грохочущие водою пасти ущелий. Зелень растений отступает, побежденная диким камнем, и только пыльные лопухи, брызгаясь белым соком, давятся под колесами.
– Вас не вст’етили? – Унгерн-Витгенштейн придержал своего жеребца на обочине, пропуская мимо себя бричку с дорожной попутчицей.
– Наверное, отец решил не выезжать за карантин.
И вот карантин: несколько солдат выбегают из сторожки; два осетина, в грязных хламидах черкесок, сидят в пыли возле дороги, мечтательно сузив глаза и покачиваясь. Здесь путники проходят последний осмотр, после чего Кавказ делается доступен для них, как извечная благодать всех воинов, купцов, поэтов и авантюристов.
Офицер читает подорожную:
– Ваши вещи, мадам?
– Только баул.
– Что имеете из металлических вещей?
– Только серьги в ушах.
– Можете проезжать, мадам…
Назар Минаевич поджидал свою дочь за карантином, держа в поводу крупную толстоногую лошадь. Увидев дочь, Ватнин всхлипнул и, вытирая кулаком слезы, пошел ей навстречу.
– Папа! – Дочь надолго прильнула к нему, – тяжелая рука есаула нежно гладила ее белый, молочный затылок…
– Ну-ну, Лизавета, – сказал Ватнин, – будет тебе!
– Папа! Милый папочка…
Ватнин оторвал дочку от себя, часто зачмокал ее в заплаканное счастливое лицо – в глаза, в щеки, в лоб, в губы. Эта разряженная молодая дама, целующаяся с бородатым мужиком в казачьем мундире, казалась со стороны забавной, – на карантине послышался смех блестящих «моншеров».
– Ну их! – сказал Ватнин стыдливо. – Поедем, Лизавета…
И они поехали, дружно беседуя. За Ермоловским камнем пошли нависать над ними, дырявые от динамитных забоев, многочисленные «Пронеси, господи», и за каждым таким страхом Ватнин, как истинный кавказец, находил среди камней вино и денежный ящик.
– Исполним завет, – говорил он, выпивая араки, дав дочери хлебнуть вина и бросая в никем не охраняемую кубышку монеты.
Ватнин рассказывал дочери о «баязетском сидении». Большие зеленые ящерицы перебегали дорогу. Проехали развалины замка царицы Тамары, но оба остались вполне равнодушны. Женщины из ближайших аулов с корзинами в руках собирали лошадиный помет для топлива. Столетние допотопные мельницы лопотали в камнях реки.
Вечером они приехали в селение Казбеги, но на постоялом дворе им отказали в ночлеге: ожидался приезд свитских офицеров, для них готовились даже особые «царские комнаты». Ватнины вышли на улицу. Издалека, откуда-то из низины ущелья, прозвучал удар колокола – это старик монах оповещал жителей, что он, несмотря на свои сто шестьдесят лет, сегодня тоже не умер.
Ватнин сказал:
– К моему кунаку поедем. Это недалече будет – в Степан-Цминда, рукой подать… Большой человек мой кунак, и ты по-французски с ним болтать можешь!
Посреди саклей высился дом с колоннами и гранитными лестницами, во дворе дома ребятишки играли с длинными бараньими кишками. Они обматывали кишками друг друга, валили на землю, пачкаясь свежей бараньей кровью. Князь Казбеги отвел гостям покой для отдыха, этот странный человек, похожий более на дикого пастуха, нежели на князя и писателя. Всю ночь по дому разносились его шаги: князь Казбеги блуждал по комнатам, с кем-то разговаривая.
Ватнин шепотком рассказал:
– Наш кунак – великий человек. Только не любит он…
– Кого не любит? – спросила дочь.
– Царя нашего, – ответил Ватнин. – Вишь, как ходит? Это он думает, как ножик точит. А пока режет его словами своими. Я-то сам не читал, да господа образованные сказывали…
Из пустынных темных окон слышался смех – ликующий, почти ненормальный смех князя Казбеги: ночное вдохновение или боль сердца навещали по ночам хозяина дома, и Ватнин широко перекрестился.
– Помогай тебе бог, – сказал он.
На следующий день князь вышел к утреннему столу, был любезен и весел. Бессонная ночь совсем не отразилась на его лице – оно было свежим и покойным. С есаулом он говорил по-татарски, с Елизаветой – по-французски. Если бы не рваный бешмет с ружейными патронами в газырях, если бы не эти худые грязные ноги, выступающие из-под бешмета, если бы не эти цепкие пальцы с чернотой под ногтями, ловко разрывающие мясо, – князь Казбеги сошел бы вполне за светского человека, настолько был умен, образен и сочен его язык, его смешливая и тонкая речь.
– Pas mal! Если бы на эту скалу, под декоративной луной, да еще посадить Сальвиони, как в Мариинском театре… О святой Георгий, до чего же глупы эти люди!
Так высмеивал он «моншеров», которые остановились в его селенье и оценили пейзаж его родных гор лишь с точки зрения завсегдатаев балетной ложи. Ватнин на прощанье обменялся с князем кинжалами и поехал с дочерью дальше.
Селение еще не скрылось из виду, когда Елизавета, о чем-то напряженно думая, вдруг спросила отца:
– Папа, а что, штабс-капитан Некрасов незнаком тебе?
Есаул удивился:
– Вместях воевали…
– А не могла бы я повидаться с ним? Мне он нужен.
Ватнин остановил лошадь:
– Помалкивай, дочка: арестован он! Не след тебе о нем интерес иметь, коли его за политику взяли… А откель ты знаешь о нем?
Дочь, не отвечая, нахлестнула коня и проскакала вперед.
………………………………………………………………………………………
«Некрасов Юрий, сын Тимофеев, происхождения из духовных, тридцати двух лет от роду, греко-российского православного вероисповедания, у причастия святого был последний раз четыре года назад, под судом и уголовным следствием не состоял, недвижимого имения не имею, денежных капиталов тоже…»
Ознакомительная версия.