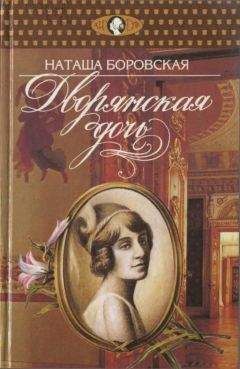— Бедный младенец, которому отказано в материнской любви еще до его рождения, — сказала хмуро няня. — Не бери грех на душу, голубка моя, ты ведь не какой-нибудь капризный ребенок. Стыдно тебе должно быть! Что лучше для твоего кузена — оставаться мертвым, или знать, что ты обманула его чувства, но быть живым?
Я смотрела уже без вызова, но со страхом в эти умные темные глаза, всевидящие и всепонимающие.
— Перестанешь ли ты унижать своего бедного мужа, который желает тебе только добра? — продолжала няня. — Так и будешь наказывать свое, еще не родившееся дитя? Попомни мое слово — ты будешь тяжело рожать и молоко высохнет у тебя в грудях, если уже сейчас носишь ребенка в такой злобе.
Ее слова смутили меня.
— Ты права, няня, я проявила слабость. Как я могла так ужасно думать о своем муже, о своем ребенке?
Я положила руки на свой огромный живот, который был мне так отвратителен еще несколько минут назад.
— Он опять стучится. Пощупай. — Я положила ее морщинистую, загрубелую руку к себе под ребра. — Я люблю его, няня, да, да, и я постараюсь полюбить его отца, я постараюсь хорошо относиться к нему, я обещаю. И я счастлива, что мой Стефан цел и невредим. Я счастлива, что стервятники не выклевали его глаза. Я счастлива, что он возвратился к своему народу. Я счастлива, что он даст своей будущей избраннице прекрасных сыновей. Я благодарю Бога за его спасение. Я благодарю Его, стоя на коленях.
Я опустилась на колени, обнимая няню за талию и склонив голову.
Целуя и гладя меня по голове, она сказала:
— Вижу, что плохо тебе, голубка моя, но не все так плохо, ты еще молода, хоть и настрадалась вволю и радостей у тебя было мало. И я вижу, что твои испытания еще далеко не закончились, они только начинаются. На все воля Божья. Эти испытания стучатся в дверь. Давай-ка лучше пойдем покушаем.
Я кротко подошла к мужу, попросила прощения за свою выходку, подала ему послеобеденный чай, я ухаживала за ним как будто бы это он, а не я, готовился к рождению ребенка через четыре месяца. Моя вспышка антипатии к нему полностью прошла, и он был мне по-прежнему мил.
Алексей слабо протестовал и умолял меня больше заботиться о себе. Я в свою очередь пообещала уменьшить свои рабочие нагрузки и позволить ему доставлять меня до Центра и провожать домой.
Через неделю французский офицер из штаба генерала Вейганда появился в моем офисе. Он принес письмо от полковника князя Веславского.
— Князь слышал о вашей работе в Центре, княжна, но он не знает вашего домашнего адреса, — сказал он. — Он беспокоился о вашем здоровье и просил передать, что счет на ваше имя уже отрыт в «Таранти Траст Банк». Он приедет в Париж, как только закончатся военные действия. Вскоре я вернусь в Польшу и готов передать любое послание и письмо, которое вы хотели бы переслать князю Веславскому. Я подожду в другой комнате, пока вы будете писать.
Я попросила его остаться и вскрыла конверт. Письмо было наскоро скроенной смесью английского и польского. «Таня-паня, Танюся, Татьяна, моя любимая, сестренка, любовь моя, жена, я скоро вернусь и заберу тебя домой. Бабушка и все мои ждут тебя. Побыстрей вступай в нашу веру и мы наконец поженимся. Предупреждаю тебя: я больше не могу ждать, когда ты станешь моей. Наши кошмары кончились, все испытания позади. Я сделаю так, чтобы ты все позабыла. Я буду любить тебя страстно, нежно, безоглядно, так, как не любили еще никогда никакую другую женщину. А пока я целую твои чудесные пальчики на каждой руке, с особым обожанием и восхищением твой Стиви-ливи-обезьяньи уши, твой муж Стефан».
Я сидела, долго и мучительно осознавая смысл этого письма. Затем написала на бланке Центра по-польски: «Слава нашему Иисусу Христу, нашему Богу, что ты здоров. Я замужем за профессором Алексеем Хольвегом и жду от него ребенка через четыре месяца. Не пиши мне больше и не пытайся меня увидеть. Прости меня, если можешь. Я всегда буду переживать смерть наших родителей. Передай мои самые нежные чувства княгине Екатерине и мои добрые пожелания Казимиру. Я каждый день молюсь за победу над вашими врагами. Спасибо за счет в банке, но я ни в чем не нуждаюсь. Наш Спаситель и наша Матерь Божья хранят тебя, брат мой».
Я подписала письмо, вложила его в конверт, затем встала и передала его французскому офицеру, который не мог скрыть своего удивления при виде моей беременности.
— Пожалуйста, передайте это письмо полковнику князю Веславскому, вместе с наилучшими пожеланиями от меня и профессора Хольвега, моего мужа. Благодарю вас за заботу. А какие новости с польско-советского фронта?
— Пока ничего хорошего, мадам. Но Франция не оставит своих союзников в беде. Она не допустит, чтобы их еще раз завоевали. Мы остановим большевистские орды.
— Можно надеяться на силы барона Врангеля на юге России?
— Мы посылаем им вооружение, мадам. Но я боюсь, это проигранное дело.
Жизнь в нашем доме вернулась в привычное русло. Я подала новое заявление и в июле после трех дней письменных экзаменов на научном факультете Сорбонны и устного экзамена неделю спустя я получила звание бакалавра и возможность поступать в университет. Алексей был горд мною более, чем я сама, неожиданно моя медицинская карьера показалась для него более необходимой, чем для меня!
Беременность и предстоящее рождение ребенка стали для меня самым важным. По мере того, как я становилась все более озабоченной и неуклюжей, я впадала в какое-то ленивое, созерцательное состояние, отнюдь не похожее на томление первой любви. Я часто мечтала о том, каким бы торжественным и сладостным событием стали бы мои роды во дворце Веславских, не то что в безликой парижской клинике. В моменты, когда шевелился ребенок, я забывала о своих занятиях и тихо улыбалась себе. В такие минуты няня бросала штопку носков и тоже впадала в состояние этакой торжественности, как будто бы я должна была произвести на свет по крайней мере наследника императорского трона.
В августе 1920-го Красная Армия была разгромлена в битве за Варшаву и отброшена к границе. Драгуны Веславского, которые возглавляли атаку по освобождению столицы от осады, яростно преследовали отступающих. Фронтовые сводки, которые я читала, ярко описывали террор, чинимый польскими драгунами.
«Он не щадит ни себя, ни своих людей, — писал один корреспондент, — кажется, что он повсюду. Он никогда не улыбается. Он несется на своей рыжей кобыле с каменным лицом во главе каждой атаки, и при виде его устрашающей фигуры на огромном коне красные бросают оружие и разбегаются».
В сентябре из Варшавы приехала моя свекровь, желая быть рядом с нами, когда у меня начнутся роды. Остановилась она в скромной гостинице неподалеку от нас. К моему удивлению, Сара Хольвег оказалась высокой, дородной дамой с надменной осанкой и с такими же горящими черными глазами, как у ее сына. В отличие от сына, однако, у нее были отчетливо выраженные семитские черты лица.
Она приехала уже настроенная против меня. Я же приняла ее с той любезностью, с какой была с детства приучена вести себя со всеми старшими в семье, невзирая на любые их причуды. Няне было строго-настрого приказано во время визитов свекрови оставаться на кухне. Я пропускала мимо ушей нянино бормотание насчет этой «наглой безбожной еврейки» так же, как не обращала внимания на ее ворчание по поводу «этих подлых, бесчестных, безбожных французов». Свекровь же, напротив, принялась откровенно высказывать моему мужу все, что она обо мне думает, как только я вышла из комнаты.
— Ну вот, — невольно услышала я, — всю свою жизнь ты ненавидел аристократов, а теперь женился на княжне, которая к тому же на четырнадцать лет тебя моложе. Любому ясно, что она вышла за тебя замуж не из-за любви. Тогда из-за чего же она за тебя пошла?
— Мама, я запрещаю тебе плохо говорить о моей жене.
В голосе мужа послышались звенящие нотки.
— Ну вот, она уже настроила тебя против твоей собственной матери.
— Моя жена на такое не способна. Она за все это время не сказала о тебе ни одного дурного слова. Это в тебе, а не в ней говорит предубеждение, и это ты ведешь себя нелогично, не достойным разумного человека образом…
— Ну вот, теперь мой сын называет меня тупицей.
Когда я вернулась, Алексей в бессильной ярости дергал себя за бородку.
Я чувствовала, что мать выводит его из себя. Он говорил мне о том, насколько его раздражает ее громкий голос после моей тихой речи. Поделился он со мной и своими опасениями на тот счет, что могут подумать о ней мои друзья из числа знати. С одной стороны, он запрещал у себя в лаборатории всякие антисемитские замечания, а с другой — каждое утро разглядывал себя в зеркале, пытаясь определить, не начал ли его нос с годами выглядеть по-еврейски, как у нее. Он сам вел себя нелогично, не достойным разумного человека образом.