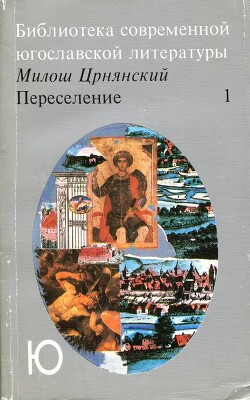Павел был потрясен ее красотою, которая могла любого свести с ума, и внезапно подумал, что эта женщина с гибким упругим телом, пламенная, нежная, дивная, достойна глубокой любви и страстных объятий.
Еще немного, и он высказал бы ей все, что думал.
«А что, если схватить ее и увести отсюда?»
Но вслух он только сказал, что девочка у нее опухла, верно больна, однако, бог даст, все они скоро выйдут из лазарета. Пусть она не отчаивается. Пусть потерпит еще день или два. Голос у Павла дрожал, как у завзятого бабника, хотя он им никогда не был. И все-таки он долго не мог оторвать взгляд от ее груди, потом посмотрел в ее глаза с такими необычными ресницами. Над бледным лбом женщины алела сдвинутая набок венецианская шапочка, бог знает где приобретенная, с этой шапки свисала серебряная кисть.
— Вы скоро выйдете отсюда, — снова повторил Павел.
Женщина молчала.
Стоявшая поблизости старуха, услышав родной язык, спросила у Исаковича, кто он такой.
— Почудилось мне, — сказала она, — будто солнце проглянуло сквозь еловые ветви.
Вокруг о чем-то кричали.
А он, точно заколдованный, все стоял перед женщиной с девочкой и твердил, чтобы она не теряла надежды, что не позже чем завтра или послезавтра она выйдет отсюда.
— Не сходи с ума, плетешь невесть что! — вдруг сказала женщина. — Ты, видно, из тех, кто сперва зажмурится и только потом целует бабу! Скажи толком, что нас ждет?
Тогда Исакович, заметив, что все смеются над ним, повернулся и пошел в конец коридора, туда, где, как ему объяснили, лежали умирающие. Он увидел двух пожилых людей с всклокоченными волосами, укутанных в одеяла, из-под которых торчали их голые ноги.
Две женщины сидели рядом с ними на корточках, прямо в соломе.
Умирающие, закатив глаза, неподвижно уставились в потолок.
А с этого потолка капала вода, грязная, как тина. Павел остановился и смотрел, вытаращив глаза, то на одного, то на другого. Штенгель уверял его, что они уже при смерти, хотя еще и шевелят дрожащими губами.
Потом Исакович спросил, есть ли в лазарете кто-нибудь из старейшин, кого люди слушают и кому подчиняются. Ему назвали некого Радуле Баевича и указали на старичка с пучком седых волос на груди, который сидел на корточках у входа, грелся на солнышке и не обращал никакого внимания на пришедших. Старик что-то рассказывал сидящим вокруг него людям. Когда его окликнули, он сердито взглянул на Исаковича.
Павел сказал, что пришел конец их мучениям, что их скоро выпустят из лазарета и они продолжат путь в Киев. Пусть ему только скажут, кто довел их до такого состояния?
Баевич спросил у Павла, кто он такой.
Исакович ответил, что он русский офицер и побратим ротмистра Подгоричанина, который пока еще дома, в Среме, но вот-вот переселится в Россию.
Баевич не знал, что такое ротмистр и кто такой Подгоричанин, но толпа, услыхав это имя, зашумела и оживилась.
Потом старик рассказал, что они были в транспорте владыки Василия, что они — его родичи и прибыли в Триест на рагузинском паруснике, но владыка к тому времени уже покинул Вену, а их вопреки правде людской и правде божьей тут задержали. Беды начали их преследовать с самого Триеста. Обманным путем у них отобрали оружие (старик сказал: «оружо»), не будь этого, они теперь свободно разгуливали бы по Вене. Ведь и сейчас еще движутся в Россию, вдоль всего Адриатического побережья, через малые города и пристани, небольшие группы черногорцев.
— Заперли нас тут, словно мы не свободные люди. И кормят мясом, которое ставят прямо на землю у порога, как собакам. А мясо-то вонючее! Верно, кошачье.
— Это кроличье мясо, — сказал Павел.
Баевич повторил:
— Воняет оно!
— Придется немного потерпеть, — проговорил Павел.
В это время кто-то крикнул, что им даже белья не дают.
Павел принялся расспрашивать, кто их уговаривал ехать в Россию.
Баевич ответил, что их уговаривать не пришлось. Они сами двинулись вслед за владыкой Василием в Россию, и вот потерялись. Уговаривать же их нет надобности!
А когда Исакович спросил, не обманывал ли их кто-нибудь, суля им деньги и обещая бог знает что, лишь бы они покинули свой край, поднялся шум, и Баевич с трудом утихомирил толпу.
— Кто бы ты ни был, офицер, — сказал он, — но говоришь ты по-ребячьи. Не знаешь Черногории! Сорок лет тому назад русский царь Петр позвал князя Луку на помощь — воевать против турка {53}. Так что всем известно, кто нас вербовал. А другого вербовщика нам не требуется.
— А зачем же ехать сейчас, когда наступил мир и турки притихли, разве не лучше повременить, покуда вернется владыка? — спросил Павел.
— А чего тянуть? — зашипел Баевич. — Достаточно мы ждали, хватит того, что двадцать пять лет тому назад нас жег Ченгич Бечир-паша {54}, а двадцать лет тому назад — Топал Осман-паша. Зачем же еще временить? Мы идем, чтобы умереть среди своих. Довольно уж мы ждали.
— Есть ли у вас какая-нибудь бумага? — спросил Исакович. — Показывал ли вам владыка Василий какую-нибудь грамоту от русских?
Баевич сердито крикнул в ответ:
— Зачем нам грамота? Мы и на слово поверили. Без позора слова не нарушишь!
— А что будет, коли вы останетесь один на один с турками, у которых целых три султана? Почему не дожидаетесь помощи от России?
Тут снова поднялся шум.
Баевич, заглушая всех, крикнул:
— Нас жгут, огонь не ждет, на австрийцев, венецианцев и прочие христианские царства мы больше не надеемся. Единственная наша надежная опора — Дрекалович {55}.
— А разве вы не могли бы, — спросил Павел, — найти себе в Вене какую-нибудь работу? Чтобы прокормиться до отъезда?
— Поначалу, — сказал Баевич, — венцы приходили на нас глазеть. Подавали кое-какую милостыню, когда совсем не стало у нас денег. Предлагали наниматься носильщиками паланкинов, есть такие и в Рагузе, они превращают мужчину в бабу. А женщин уговаривали идти стирать белье да выносить мусор из кабаков!
— А что будет, если всех вас вернут в Черногорию? Ведь среди вас есть и умирающие!
После долгого молчания Баевич ответил:
— Коли Россия о нас забыла, то все мы, конечно, по дороге помрем. Да и чего стоит такая жизнь! Но зато хоть те, кто выживет, будут знать, что их ждет. Но мы не верим, что о нас забудет владыка Василий, а тем более — Россия. Нас ждут в Киеве родичи.
Когда Исакович спросил, не слишком ли они доверяют владыке Василию, в ответ ему закричали, что лучше его им не требуется!
Исакович умолк, потом велел всем стать в кружок и выслушать его.
— Знайте, я слов на ветер не бросаю, — сказал он. — Меня прислали поглядеть на вас и сообщить, что Россия вас не забыла, что для вас уже готовят паспорта. Перед вами отворятся ворота лазарета, если не завтра или послезавтра, то в ближайшие дни, непременно отворятся. К вам будет приходить врач. Больных положат в больницу. Здоровые отправятся в Киев. Клянусь вам в том святым Мратом.
И тут Исакович пережил нечто такое, чего вовсе не ожидал, и произошло это внезапно, точно гром среди ясного неба. Впрочем, зачем пытаться объяснять то, что не поддается объяснению?
Его слова из уст в уста передавались по темным коридорам лазарета.
Пришел, мол, русский офицер, и всех их вот-вот отправят в Россию. Началось всеобщее ликование, зазвучал веселый смех, но звучал он не так, как у других людей, казалось, заворковали горлицы.
Эти костистые, угрюмые, высохшие люди с горных кряжей и вершин, закаленные в жестокой резне, обагренные кровью и, казалось, забывшие, как смеются, сейчас смеялись какими-то дробными птичьими голосами.
Потом Исакович услышал, что они перекликаются друг с другом.
Уже у ворот он спросил Баевича, кто такая женщина в красной шапочке с маленькой опухшей девочкой, что испуганно жмется к ней.
— Это Йока Стане Дрекова. Ее позорно бросил муж в Триесте. Надоело ему, видите ли, ждать. А почему вы спрашиваете?