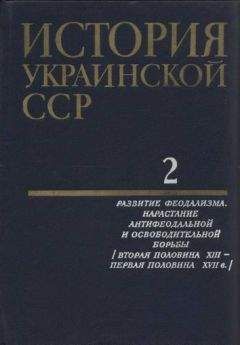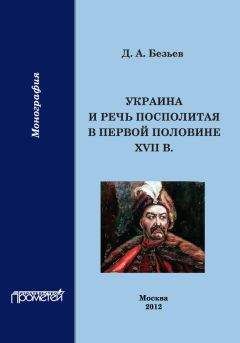Белоцерковский есаул Макитра ехал с Федором Гладким в одном рыдване, на котором еще красовались фамильные гербы Потоцких. Следом за рыдваном катились кованые возы, наполненные разным скарбом — медными котлами, кадками, плугами, железом, косами, граблями, посудой с разными фамильными гербами, шубами, кунтушами, платьями, даже старой сбруей. Возы также принадлежали есаулу.
— Жена приказывала не возвращаться из похода, если не достану для дочери серебряного зеркальца, — говорил он Гладкому, который всю дорогу дремал в уголке рыдвана. — И нашел было у пани Орепинской, возле Пулина. Как раз такое, как жена говорила. Так хлоп глупый, как увидел себя в зеркальце, бросил на землю, еще и каблуком наступил... А ну, хлопе, придержи коней, — сказал он уже в окошко. — Стань в сторону!
Рыдван остановился. В трех шагах валялась разбитая повозка, а возле нее несколько трупов.
— Сними кафтан с того крайнего: он еще целый.
— Да ну его, леший с ним, — брезгливо ответил возница, оглядываясь на казаков.
Казаки ехали верхом и на возах — без конца и края. Старшины были одеты в теплые шубы, в добротные киреи, в лисьи шапки, казаки — в тулупы, в татарские кобеняки, а позади полков, не на конях и не на возах, а спотыкаясь о мерзлые комья, плелись оказачившиеся мещане и посполитые. Они ежились от холода в кунтушах с чужого плеча, в свитках и истоптанных постолах. За спиной у них болтались пустые сумы. Они были измучены голодом, обессилены болезнью, которая всю осень мучила казацкий лагерь. Эпидемия выкосила больше казаков, чем огонь противника, и продолжала косить еще и сейчас. Больные пластом лежали на возах, и каждую ночь их десятками закапывали у дороги.
Когда возница есаула вторично отказался раздевать покойника. Макитра вылез сам, стянул с закостеневшего трупа не только кафтан, но и жилетку, а от повозки отломил ось и бросил в рыдван под ноги.
— Видали, пане Федор, как хлопы распаскудились? Воротит его от покойников! Ты, хлоп, еще рад будешь такому кафтану, когда начнешь светить голым телом. Думает, как раздобыл сорочку, так уже и паном стал, на всю жизнь хватит. Видно, бог внял нашим молитвам, что Хмель не пустил голытьбу на Варшаву, ведь побьет шляхту — так уж обязательно и за нас возьмется... Да ты спишь, пане Федор?
— Неможется мне, — ответил Федор Гладкий. — Хоть бы до Киева дотянуть.
— Слыхал, через три дня будем в Киеве. Говорил ведь тебе, выпей стакан оковитой с порохом. Для меня это первое лечение: полмеры горилки, полмеры пороху, выпил — и на печку...
— А где же эта печь, если вторые сутки ни одного дыма не видно.
— Это правда: разогнали жителей, а сколько народу оказачилось! Теперь хлопа, верно, и силой не заставишь снова работать на пана. А кто сеять будет? А что есть будем? Может, еще и нам придется бросать Украину и идти за хлебом.
— Московский царь разрешил черкассцам покупать в России хлеб и соль без пошлин.
— О, смилостивился!
— Хмель посылал просить.
— Все подлаживается, все виляет перед Московией. А мы не хотим! Теперь король польский будет за нас, может еще и со шляхтой уравняет. А что мне может дать царь московский? А отобрать — отберет!
— Я тоже так думаю.
— А что он, Хмельницкий?
— Народ, говорит, так хочет...
— А разве казацкая старшина — не народ? Многие ведь не согласятся! Пусть только голытьба расползется, мы ему тогда не то запоем!.. Чего тебе?
За дверцу кареты уцепился изможденный парубок, у которого на исхудалом, почерневшем лице только глаза блестели.
— Добрый пане, я уж, видно, не дойду... Довоевался... Дозвольте, я немножечко, хоть на приступке...
— А кто тебя неволил воевать? Много вас таких. Оборвешь сукно!
Парубок не выпускал дверцы из посиневших пальцев и продолжал спотыкаться рядом с каретой.
— Не ради себя воевал...
— А ты чего рот разинул? Подгони коней! — раздраженно бросил Макитра вознице.
Карета закачалась на выбоинах, голова парубка то исчезала, то появлялась в окошке, а когда ее уже не стало видно, Макитра обернулся.
— Шлепнулся. Вишь, каких наплодил Хмель на нашу голову!
— Я думаю, — отозвался Гладкий из угла, — Хмель еще и сам пожалеет: для таких, как этот голодранец, мы все — богатеи-толстосумы, хотя и православные. А теперь, когда набили морду вельможным, можно будет и нам голос подать. — Гладкий посмотрел на продрогшего возницу и наклонился ближе к Макитре: — Когда были послы к гетману из Львова, один тайком подсунул мне кое-что...
— Подсунул? — Макитра наклонился еще ближе. — Что же он подсунул?
— Привилей!
— Привилей?
— Привилей!
Макитра откинулся в самый угол кареты и выпучил глаза на полковника.
— От короля?
— От короля. Не будешь дураком — и ты можешь получить.
Теперь уже Макитра выглянул в окно и потом всем телом подался к Гладкому.
— Где, скажи, как? Ты же знаешь, мы были послушны королю и будем!.. Тебе что — маеток? Или шляхетство? Мне хотя бы мельницы да пруды пана Смяровского... Его же, благодарение богу, укокошили.
— Перво-наперво надо от Хмельницкого отступиться.
— А, леший с ним! Что он мне, этот Хмель, — сват или брат, или его Украина будет меня кормить? Хоть сегодня!
— Ну, об этом побеседуем в другом месте. Что-то морозит меня... Может, и еще кого-нибудь уговоришь... Дело верное.
— А ты молчал, пане полковник!
— Береженого бог бережет, пане есаул!
— Понимаю... Вот только Максим Кривонос возле него. Уж такие родные стали, что куда там!
— Говорят, ему хуже, Максиму... Открой окошко, душно стало.
— Баба с возу — кобыле легче... И мне что-то душно.
Максим Кривонос после ранения у стен бернардинского монастыря был на волосок от смерти: пуля, пущенная рукой монаха, попала под сердце. Он не сдавался. Но к ране прибавилась еще и хворость.
— Мартын, — сказал он однажды утром, болезненно улыбаясь. Глаза его ярко сверкали. — Ты умеешь отгадывать сны?
Джура стал еще угрюмее и молчаливее. Но, верно, и родная мать так не ухаживала за Максимом в детстве, как ухаживал сейчас за ним Мартын.
— Может, ворожку позвать? Что вам такое приснилось?
— Подними подушку.
Подушка, которую ему раздобыл Мартын в брошенном хозяевами доме, валялась на полу.
— Снится мне, что я стою на высокой башне с зубцами и смотрю на долину, а по долине идет какое-то войско, выровнялось, как под линейку. Много войска, и все на запад.
Мартын, стараясь уразуметь каждое слово, наморщил лоб, кивнул головой.
— Потом, откуда ни возьмись, черный ворон, сел возле меня на столб и тоже смотрит на войско. Потом прилетели совы, уселись на постель и ну клевать меня.
— Сова — это от вредных ветров и непогоды.
— А женщина? Подошла к постели какая-то женщина — высокая, вся в черном, посмотрела на меня большими глазами, написала мелом на спинке кровати крестик и молча отошла.
— Где написала?
— В головах.
— Так это ж на здоровье, пане полковник! Плохо, когда крестик в ногах, — обрадовался Мартын и, должно быть, впервые за долгое время улыбнулся.
Однако к вечеру жар усилился, и Кривонос начал заговариваться. Вдруг вскочил с горящими глазами и стал выкрикивать:
— Стой, душегуб! Теперь я отомщу тебе за наши мучения! Вынимай саблю! — и начал фехтовать с воображаемым противником, пока, обессиленный, снова не упал.
Пошла уже вторая неделя, а Кривонос не приходил, в сознание. В дороге Мартын вез его, укутанного в тулупы, на арбе, застланной пахучим сеном. За арбой, привязанный, шел конь Максима, укрытый попоной, а по бокам ехали Мартын и Кондрат. Иногда подъезжали Петро Пивкожуха и Саливон. Они долго и молча всматривались в восковое лицо своего полковника, который водил затуманенным взором и никого уже не узнавал.
На четырнадцатый день Кривонос начал сильнее, чем всегда, метаться на арбе, с безумными глазами рвать на себе рубаху, кричать. Потом как будто притих и умоляюще заговорил:
— Положи мне на лоб руку... Теперь легче. Почему ты так смотришь? Ты холодная вся, Ярина!
И снова громко закричал:
— Где Богдан?.. Киев уже видно!
— Хоть бы завтра увидеть, — пробормотал Мартын.
— Видишь, сияет златоглавый!
Он разбросал прикрывавшую его одежду, ловким прыжком соскочил с арбы и властно крикнул:
— Мартын, коня!
На этот раз Мартын был уже бессилен удержать полковника. Попробовал и Кондрат, подбежали еще казаки, но Кривонос размахивал руками и сбивал казаков с ног. Мартын быстро отвязал коня. Кривонос одним рывком вскочил в седло и поскакал в поле. Глаза его сверкали, как осколки стекла при свете месяца, разметавшийся чуб летел по ветру, а полы жупана бились, как крылья огромной птицы. Вытянув руки вперед, Кривонос возбужденно кричал, будто перед ним была вода: