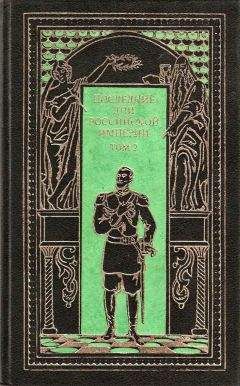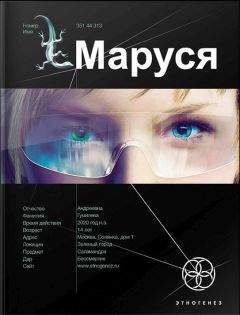204-я дивизия строилась в резервный порядок для принесения присяги Временному правительству. От Командующего Армией утром пришло Саблину приказание лично быть на присяге. Пестрецов опасался, что солдаты откажутся присягать, и требовал, чтобы Саблин объяснил войскам, что Государь сам отрёкся от престола, что также отрёкся и Михаил Александрович, что будет Учредительное Собрание, которое установит образ правления в России, и что волноваться нечего, ежели народ пожелает иметь Царя, то Царь и будет.
Саблин холодно, без обычного в таких случаях, когда он бывал перед войсками, подъёма, прочитал бледный манифест, подписанный Государем и сказал, что Россия без управления оставаться не может, что бремя власти взяло на себя Временное правительство, которому и надлежит присягать.
Он посмотрел на лица солдат. Они были задумчивы, большинство смотрело вниз исподлобья. Саблин подумал: «Народ взял на себя сам бремя власти и задумался».
Он отъехал в сторону, слез с лошади и закурил папиросу. Перед ряды вышел священник и стал монотонно читать слова новой присяги, чуждо звучащей для солдата, слишком простой и не страшной.
После чтения по очереди стали подходить сначала офицеры, потом солдаты и подписываться под присяжными листами.
Саблин хотел уже уезжать, как вдруг шум и громкий говор заставили его встрепенуться. Из леса, направляясь к нему, шла маленькая группа вооружённых солдат, бесцеремонно толкая перед собой офицера. Саблин с удивлением увидал на солдатских погонах номер полка Козлова, а в офицере узнал подпоручика Ермолова. Те самые солдаты, которые обожали своего офицера и с которыми он жил одною жизнью на позиции, нагло и грубо толкали его.
— Что такое! — крикнул Саблин. — Как вы смеете!
Солдаты подошли к Саблину. Их тесным кольцом окружила толпа уже присягнувших солдат полка, смотрела и жадно слушала, что будет дальше.
— Ваше превосходительство, — задыхаясь заговорил молодой солдат с наглым лицом, не выпуская из своей руки шинели Ермолова, — позвольте вам доложить. Все, значит, присягать стали, подписывать присяжный лист, а поручик Ермолов вдруг пошли в лес и стали уходить с поля.
— Присягать, значит, не желают, — сказал другой солдат, стоявший по ту сторону от Ермолова.
— Прежде всего, не сметь трогать офицера, — крикнул Саблин, — и разойтись по местам.
Никто не шевельнулся. Сквозь толпу протиснулся бледный Козлов и стал подле Саблина. Саблин заметил, что он отстегнул крышку кобуры револьвера и передвинул револьвер на живот.
— Я присягнул своему Государю, — твёрдо, отчётливо, чеканя слова, сказал Ермолов тяжело дыша, — и никому более присягать не буду… Я не изменник!
— Ишь ты! — пронеслось по толпе. — Государь сам отрёкся, народ, значит, взялся сам управлять. А он, значит, не желает с народом служить.
— Разойтись, — гневно крикнул Саблин.
— Чего разойтись! Товарищи, надо посмотреть, присягал ли ещё и сам генерал. Может, и он с ним заодно, под красным знаменем служить не желает.
— Вам сказано разойтись, — сказал Козлов. — Что вы, бунтовать хотите?
— Это не мы бунтуем, а те, что присягать не хотят. Их арестовать надо.
— Арестовать, арестовать!
— И генерала арестовать!
— Правильно, товарищи.
— Царя ноне нет и господ нет. Арестовать генерала!
— Навались, робя. Хватай!
Положение становилось тяжёлым. Передние ещё держались, не смея поднять руку на своего корпусного командира, но сзади напирала масса, раздавались свистки, и Саблин почувствовал, что сейчас произойдёт что-то ужасное.
— Повремените, товарищи! — раздался из толпы слегка шепелявящий, тусклый голос, и Саблин узнал голос Верцинского. — Самосуд не дело свободного народа. Вы неправильно арестовали товарища Ермолова. Он такой же свободный гражданин, как и вы, и это его воля, присягать или нет. Ведь и вас никто не неволил. Товарищи! Настала минута, когда вы должны показать, что вы достойны той великой свободы, которую завоевали мозолистые руки солдат и рабочих! Вы не оскверните чистые минуты великой революции насилием. Мирно разойдёмся, товарищи, но будем знать, что есть люди, которые не с нами. На них мы будем смотреть с полным, глубоким презрением. По землянкам, товарищи. Красное знамя свободы сменило двуглавого орла тирании и произвола! Расходитесь!
— Правильно!
— Что же, это он правильно! Коли свобода, то, значит, во всём свобода… И в присяге свобода.
Толпа пошатнулась и стала расходиться.
— Ваше превосходительство, я умоляю вас, уезжайте, — сказал Козлов. — Люди с ума сошли. Пройдёт этот угар, и они на коленях будут умолять о прощении.
— Садитесь на лошадь моего ординарца и поедем ко мне, — сказал Саблин Ермолову, — вам небезопасно оставаться среди них.
— Я ничего не боюсь, ваше превосходительство, — со светлым лицом сказал Ермолов. — Я и смерти не боюсь. А жить теперь не стоит. Не для чего!
— Ваша жизнь ещё нужна будет! Садитесь.
Они молча поехали мимо расходившихся солдат. Почти никто не отдавал чести Саблину, солдаты смотрели мрачно, исподлобья, но молчали.
В штабе корпуса Саблин застал полный кавардак. Едва не бунт. На дворе избы, которую занимал Саблин, толпились радиотелеграфисты, телеграфисты, мотоциклисты и самокатчики и о чём-то шумели.
— Я говорю, не имеет права задерживать! Это такой же приказ, как и Временного правительства, и Вислентьев не имел права сдавать начальнику штаба. Вислентьева за это арестовать надо. Он должен был передать, как указано, — слышал Саблин возбуждённый голос, когда слезал с лошади.
Он хмуро посмотрел на солдат и прошёл в хату. В ней Давыдов с бледным, как полотно, лицом, неистово куря, ходил взад и вперёд по грязному, размокшему, земляному полу.
— В чём дело, Сергей Петрович? — спросил Саблин.
— Я едва не выпорол телеграфиста. И жалею, что не выпорол эту скотину, — сказал Давыдов.
— Но что случилось?
— Извольте видеть, ночью передана радиотелеграмма с заголовком «Всем, всем, всем», немедленно передать во все части, роты, эскадроны, батареи и команды. Дикая галиматья. Воинская дисциплина отменяется. Объявляется декларация прав солдата! Слышите, ваше превосходительство, не обязанностей, а прав. Прав! Солдат имеет право ходить по всяким злачным местам, ездить в вагоне I класса, и даже не сказано, что с билетом, не отдавать никому никакой чести, офицер вне службы ему не начальник, и прочая ерунда и довольно безграмотная.
— Кем подписана?
— Советом солдатских и рабочих депутатов.
— Ерунда! Как же её передали?
— А вот пойдите вы. Оказывается, это не первая. По ночам радиотелеграф работает непрерывно и радиотелеграфисты исписывают целые листы «всем, всем, всем!». Что с этим делать!
— Приложить к секретному делу как любопытный документ неразберихи нынешнего времени.
— Уничтожить! Да неразбериха ли, ваше превосходительство? Вот в чём беда! Слыхали, в М-ске торжества по случаю революции и свержения Царя. Начальника гарнизона генерал-адьютанта Б. товарищи солдаты просят пожаловать на парад. Он выходит. Ничего красного на нём нет. Услужливые адьютанты говорят: «Вам надо быть в красном, ваше превосходительство». Кто-то, ах, ваше превосходительство, — от подлиз и от лакеев нас и революция не избавила, — выворачивает генеральское пальто на красной подкладке и подаёт так Б. Тот одевает. Каков кардинал!
— Шут гороховый!
— Так вот, ваше превосходительство, неразбериха ли это? А?
— Но ведь вы понимаете, — сказал Саблин, — что этот приказ N1 с Декларацией прав солдата — это проповедь распущенности. Наш солдат в массе и без того разнуздан, давно ли командование было принуждено ввести телесные наказания, чтобы хотя как-нибудь обуздать армию и охранить мирных жителей, а после такого приказа трепещи обывательское благополучие. На части разорвут.
— И воевать не станут, ваше превосходительство. Я полком командовал, так знаю-с, что такое выгнать из окопа и поднять цепь в наступление. Не то что кричишь, надрываешься, а палкой иной раз съездишь. А тут вы и тому подобное. Да они это вы — вам ты ответят. Так спрятать приказ?
— Обязательно спрятать…
Вечером из штаба армии пришло приказание разъяснить солдатам, что приказ N1 и декларация прав солдата касается только частей Петроградского гарнизона, заслужившего такие милости, так как он поднял знамя революции. Мозги солдат окончательно свихнулись. Явилось такое правительство, которое измену присяге, измену Государю, уличные беспорядки ставит выше тяжёлой, полной лишений и боевой страды на фронте. И солдат озлобился.