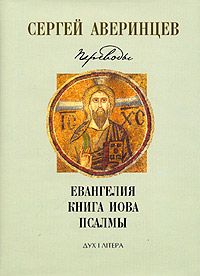В окрестностях Копыся водились чрезвычайно редкие черные зайцы. И это отец в сговоре со скорняком Вежи, знаменитым мастером, уверил одного из Витахмовичей, Симона, что бывают зайцы и полосатые, и в докозательство этого показал шкурку и сказал, что за второй экземпляр не пожалеет и тысячи рублей. Симон целый год днями и ночами таскался по известковым пустошам возле Романовичей, спал в халупах пастухов или просто под чистым небом, пил козье молоко и, конечно же, ничего не убил. Зато вылечился от туберкулеза.
Теперь на пана Юрия больно было смотреть. В его глазах часто появлялись безразличие и пустота.
Оживал он только на охоте. Но и там однажды, когда ночевали у костра, чтоб утром идти флажить волков, не выдержал. Слушал-слушал сына, а потом тихо сказал:
— Окончена, брат, жизнь. Не так прожили. Еще лет двадцать тоски, а там и к пани Песоцкой в кровать.
— Отец, ты что?
— Не нужно все это никому. Ни эти реформы, когда вся эта механика требует молота, ни моя суета. Нич-чего!
…Настроение это начало проходить у пана Юрия с первыми приметами «весны воды», с предчувствием клича лугов и болот, с первым живым представлением о том, как скоро уже станет «капать» и «скрежетать» в пуще глушец.
Словно каждая синяя капля из сосульки подбавляла сини в отцовы глаза. Зато теперь, предчувствуя стрельбу, начала заранее страдать мать.
Повторялась привычная история каждой весны.
Отец тайком готовился. Лили дробь, делали из войлока пыжи.
— Что, брат, поделаешь! Страсть! Прошлифует нам с тобой мать потроха.
Как черт, сверкал синими глазами.
Зацимбалил дождь по вершиночкам,
По еловнику, по березничку…
Серым коникам сухонько стоять,
Нам, стрелкам-молодцам, мокренько сидеть.
Серы коники под свиткой угреваются,
Мы укрылися, стрелoчки, голой спиной.
Пел тихонько, но так, что становилось страшновато.
И вдруг плевался:
— Черт знает что… Разбойничья!.. Вот послушали б люди. Да еще кабы кистень на руку, — знаешь, такой шар с шипами да ремень вокруг запястья. Да в людскую, да в три пальца свись! «А-ди, кому шкура дорога!» Или лучше к Фельдбауху.
Пан Юрий изобразил растерянное лицо пана Людвика. Потом на этом лице появилась недоверчивая улыбка:
— Ша-лун-ка! Das ist mir nicht Wurst! К пани муттерхен Антонида я сейчас пробежался! Вместе этот разбойник гонять! Nuch?!
…Отец с матерью поссорились в этот год задолго до начала весенней охоты, и Алесь почти обрадовался этому: скорее пройдет грусть матери и он, Алесь, на уток поедет вместе с отцом, а дома уже будут тишина и мир. Не мог он видеть укора в глазах матери. И не мог, как и пан Юрий, отказаться от ружья, костра и ветра.
В середине марта произошла неприятная история в Татарской Гребле.
Деревня лежала в той самой пуще, куда дети когда-то ходили смотреть, где берут начало криницы, на северо-восток от Покивачевой мельницы. Это была самая глухая из деревень пана Юрия: на север, северо-запад и запад от нее пуща тянулась на несколько дней дороги.
Пуща еще спала. Не было даже проталин. Большие города муравьиного народа дремали под снегом. Лишь ворон, чтоб не платить муравьям за проигранный когда-то заклад собственными детьми,[139] спешил поставить воронят на крыло, пока города врага были просто мертвыми хвойными иглами.
В эти дни явился в Татарскую Греблю нежданный гость — огромный исхудавший самец медведь.
Преждевременно поднявшись из берлоги, совсем еще не вылиняв, голодный, за одну ночь разорил ульи в омшанике мужика Шпирки Брыжуна и с неделю не появлялся, потом залез в конюшню Ничипора Щербы, повалил кобылу с жеребенком — единственное достояние семьи — и напился теплой лошадиной крови.
Его гнал голод. Следующей ночью он появился на загуменье деревни, раскидал овчарню и задрал еще одного коня, а утром отнял лукошко с яйцами у Верки Подопри-Камин. Баба несла яйца в Суходол, на рынок.
Терроризированная деревня забиралась с закатом солнца в хаты и сидела там до утра. Медведь никогда не трогает людей — до первой крови, все равно, медвежьей или человечьей. Медведь не трогает и крупного скота. Этого принудила к разбою мертвая пуща. И в разбое он был необузданным и умным. Невольно вспоминалось предание, что медведи — это люди, только обросшие шерстью. Да более умные, потому что удрали в лес, чтоб их не заставили трудиться.
Мужики жаловались. Пан Юрий начал готовиться. Мать страдальчески морщила брови:
— Ну зачем?
— Коней валим, милая, людей обездоливает.
— Испугайте и прогоните. Снег, а у него, единственного из зверей, голые пятки.
— А кто виноват? — посмеивался пан Юрий. — Ты знаешь, почему медведь встает? Он летом загуляется с медведицами дольше других да не успеет жира назапасить… Медведь — Дон-Жуан, как сказала одна придурковатая городская барышня.
— Юрась! — бросала мать последний козырь.
— Ну что ты? Ну, пятки голые! Так ведь сам виноват… «Медведи чернику в пуще собирали, медведи чернику на ток рассыпали. Медведи весь день по чернике ходили, лепешки черники на пятках сушили. Четыре ноги аж под солнце вздымали, всю зиму черничные лапы сосали… Вку-уснень-ко!..»
Из Гребли донесли, что медведь после каждого разбоя возвращается в свою берлогу и делает попытку уснуть снова. И засыпает иногда. На день-два.
…В день охоты Алесь решил было не вставать, чтоб не портить себе настроения чужими сборами, но в четыре часа, в темноте, пан Юрий запел, идя в оружейную, и только у двери сына умолк: вспомнил, что тот не едет и это радостное пение может на целый день испортить настроение сыну.
Алесь со злостью закутался в одеяло, желая уснуть, но не мог. Все равно надо было вставать и идти на сахарный завод. Да и не хотелось пропускать сборы: зрелище, видимо, еще более волнующее, чем сама охота.
…Во дворе месили копытами подмерзший снег кони. Скрипели полозья. Освещенные фонарями и факелами, сновали туда-сюда люди. Бискупович и Юлиан Раткевич распоряжались. В пятнах света вырисовывались сухощавые силуэты собак.
Псари держали их на сворах. Собак сегодня ожидала трудная работа — хватать зверя сзади, «за ноговицы», оттягивать его от охотников.
Шляхта из младших родов — семь человек — то и дело ставила ружья и рогатины у крыльца и шла в охотничью комнату, куда еще с вечера поставили столы — закусывать. Возвращались оттуда красные, тугие на утреннем морозике, как помидоры. Пахло от них вином, свежим морозом, кожей и конским потом.
Переступали с ноги на ногу, скрипели белыми высокими войлоками, ходнями[140] и сапогами.
Фонари погасили, и снег стал лиловым. Появился отец. Синеглазый, смуглый, белозубый. Увидел Алеся и виновато прошептал:
— Такова уж наша судьба: соловья не кормят баснями, а женщин мудростью.
Он был очень огорчен за сына.
— Ну ничего. Даю тебе слово: всегда теперь будешь со мной.
Хлопнул сына по плечу и, пружиня, встряхнулся, как зверь. Нет, ничего не бренчало, все было подогнано как следует.
Пан Юрий был во всем белом. Белые кабти,[141] белые кожаные штаны, белая шуба, подбитая горностаем, белая, тоже горностаевая, шапка с заломленным верхом.
— А чтоб из вас дух, — сказал он внезапно. — Так вот, сам не проследи… Пиявки датские где?
— Вон стая, — кивнул Карп.
— Еще одну, — сказал пан Юрий.
Снял шапку. Рассыпались блестящие белокурые волосы.
— Жарко.
— Выпил, что ли? — спросил Раткевич.
— Что я, такой дурень, как у твоего отца дети? Просто жарко. Вот-вот весна.
— Узрел, — сказал Януш.
— Хлопцы, хватит жрать! А то как бы потом Андреева стояния не было, — пошутил пан Юрий. — Давайте собираться.
Повели на смычках собак. Звонко заржал в свежем утреннем воздухе конь.
— Быстрее, хлопцы, не терпится. Змитер! О, хитрая бестия Змитер! Но-но, Змей! Давай настоящего коня.
— Да… я… оно… думал… чтоб Змей… Хай бы ён…
Синие хитрые глаза отца смеялись. Он скопировал Змитра:
— Хай бо ж но ён… гэна.
Вокруг захохотали.
— О то ж бо яно табе и е, — важно закончил отец.
От него так дышало здоровьем, силой и радостью. Движения сделались точными и ловкими, как прежде.
Подвели белого жеребца. Пан Юрий легко взвился в высокое седло. Поискал ногой петлю и вставил в нее рукоять рогатины.
Теперь, с ружьем за плечами, с рогатиной, похожей на древнюю пику, загорщинский пан напоминал средневекового воина. Подобранный, ловкий, легкий в седле — залюбоваться можно.
— А кто это там требухой трясет? Известно кто — Раткевич. Своячок младшенького рода, чтоб уже дух из тебя, чтоб…
Подскакал к саням, в которых семеро из младших сидели спинами друг к другу.
— Что вы, на суд едете?