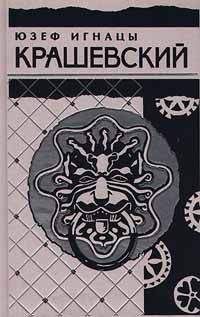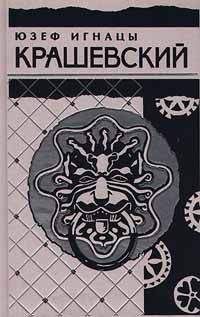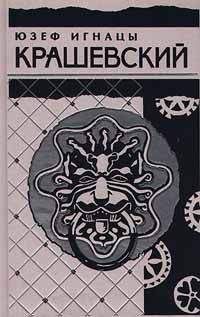Небольшой, коренастый, с узким лбом, растрепанным чубом, широкоплечий, с длинными руками и отвислыми губами, Каспар имел весьма непривлекательную наружность. Но не было слуги ему подобного: первым качеством его было то, что желания господина всегда были его собственными желаниями. Всегда он угадывал его мысли, предупреждал желание, сообразовался со вкусом и мало того, что повиновался, но ему не нужно было приказаний.
Дарский никогда ему не распределял порядок дня, Каспар сам как-то безотчетно знал, что и когда следовало работать. Однако обречение это нисколько его не тяготило: он был счастлив, всегда весел, каждому рад и первый разведывал, если что случилось. Он оживлял собою весь небольшой двор и был его душой и головою.
Отец с сыном дошли до дому под предводительством этого знаменитого слуги, который, заложив за спину руки, шел рядом с господами. К удивлению, здесь встретили они чужого человека, подходившего к двери с запиской в руке.
— Откуда ты, любезный? — спросили почти одновременно Дарский и Каспар.
— Из Домбровы, пане, с запиской.
— Отведи же, Каспар, гостя в людскую и попотчуй, а я прочту письмо.
Старик так всегда принимал чужих и, хотя бы те приходили только на минуту, он приказывал их накормить, напоить и принять как следует. Каспар, зная обычай, взял посланного и, уже усмехаясь в искренней беседе с ним, вел его в людскую.
С любопытством отец и сын приблизились к свечке, и старик отдал письмо Яну, будучи уверен, что оно к нему адресовано, но отдал со вздохом. Потом задумчивый, сел он в свое кресло, наливая суп в простую глиняную тарелку.
Ян покраснел, читая письмо.
— Ну что тебе пишут? — спросил отец.
— Старостина…
— Как? Сама Старостина?
— Приглашает меня к себе.
— Большая честь! Черт возьми! — сказал старик, начиная спокойно есть свой суп. — Теперь, брат, пропал ты.
Ян снова поцеловал руку отца и сказал тихо:
— Вы позволите?
— Могу ли я что запрещать или позволять тебе? Ты не мальчишка, имеешь или должен иметь свой рассудок. Наконец, к чему служило бы запрещение? Не здесь, так в другом месте нашел бы, что любишь. Да сбудется воля Божия! Как отец, могу советовать, журить, даже плакать, но препятствовать никогда! Дай Бог, чтобы ты нашел счастье, которое там видишь и не зашел туда, куда не думаешь.
И когда Ян в волнении поспешно отвечал на письмо, старик ел свой суп и говорил:
— Ты не знал милой, доброй, но преждевременно умершей матери. Пошли тебе Бог подобную подругу жизни. А между тем, я не искал ее высоко: она была дочь трудолюбивых бедных людей. И теперь слезы навертываются, когда вспоминаю о ней, хотя уже прошло двадцать с лишним лет, как мы расстались.
Старик положил ложку и опустил голову.
— Расстались мы на время, но соединимся навеки. И если бы действительно была услышана моя молитва, я ни о чем бы не просил Бога, как о жене для Яна, подобной его матери.
— Отец мой, — сказал Ян с увлечением, — я так уважаю вас, так люблю, что если бы видел в женщине всевозможное блаженство, а вы приказали бы мне оставить ее, я оставил бы.
— Это уж слишком! Так тебе кажется и, наконец, в твои годы это слишком большая жертва. Что же ты отвечал, Ян?
— Что завтра приеду. Надо сегодня послать за лошадьми и экипажем в местечко.
— И сделаешь глупость. Никто ведь не знает здесь, что ты богат, не объявляй же о том, пока не спросят. Лгать — Боже сохрани! Но ручаюсь, что никто и не догадывается о твоем состоянии, а хвастать самому — не идет. Зачем тебе экипаж? Возьми серого, я дам новое седло.
— Но как же? Во фраке?
— А разве далеко?
— Против приличия!
— Не обращай на это внимания, смешного не будет ничего, а необыкновенное, лишь бы не смешное, не повредит тебе нисколько в глазах женщин.
— Как прикажете.
— Я от души тебе советую. И не упоминай о своем литовском имении. Уж если хочешь искать жены высоко, пусть же будет уверенность, что она истинно тебя любит. Коли примут, зная, что ты беден, ну, тогда это уж должно что-нибудь значить.
Отправили ответ, и Ян задумчивый, но веселый, присел за ужин. Каспар явился прислуживать.
— А гость? — спросил старик.
— Ушел, как только дали ответ; говорит, что ему приказано скорее возвратиться.
— Но ты его угостил?
— Как же, как же! Мы знаем приличия, как сказал кто-то… (Это была любимая поговорка Каспара.)
— Но расспрашивал посланный?
— Как же, как же! Но меня не скоро поймает на удочку, как сказал кто-то. Спрашивал, далеко ли живет паныч? А я отвечаю: о, далеко! — Что же распоряжается имением? — Кажется, — отвечал я. — И должно быть богат? — снова спрашивает. — А я на это: кто ж там знает, как сказал кто-то. Имение его очень далеко.
— Умно отвечал, Каспар, — сказал старик.
— А уж я не наговорю глупостей! — молвил слуга, переваливаясь на одну ногу с какой-то гордостью.
— А потом?
— А потом словно бы кто ему рот зашил, только две рюмки водки выпил.
— И закусил?
— Колбасой, а как же, колбасой!
— Ну, если он закусил, давай же и нам закусить чего-нибудь, — отозвался старик.
Каспар поспешил за другим блюдом, которое состояло из свежего картофеля.
Напрасно будем прибавлять, что Ян не ужинал: в его положении ничего не едят, разве по рассеянию.
Есть в жизни минуты, устрашающие человека, хотя он ничем не может объяснить себе этой боязни, смотря на нее издали. Не всегда вещее предчувствие потрясает сердце и заставляет приостановиться; иногда избыток надежды рождает боязнь, чтобы она не исчезла в одно мгновение. Голова идет кругом, немеют уста, глаза смотрят и ничего не видят, даже мысли, подобные птицам, над которыми кружится невидимый ястреб, и они машут в воздухе ослабевшими крыльями, падают.
Наиотважнейшие, обладающие присутствием духа не узнают себя в те критические периоды жизни; а когда после холодным взором посмотрят на предмет боязни, смеются над ним, как над ребячеством.
Волнуемый таким страхом, подъезжал Ян к Домброве. Он не мог отдать отчета в своей боязни; и хотя изъяснял себе, что страх был неразумным чувством, какой-то болезнью, ребячеством, однако, все боялся чего-то.
Мы возвратимся в комнату Старостины в то время, когда Юлия, утомленная и взволнованная прогулкой, присела на скамеечке у ног бабушки.
— Видишь, дитя мое, — говорила старушка, прикладывая руку к ее вискам, — как тебе кровь бьет в голову! Ты вся покраснела и так измучилась. Сколько раз я просила, чтобы ты не бегала. И Мария позволяет?
— Я говорила Юлии, просила.
— Но, милая бабушка, это мне нисколько не вредит.
— И, слава Богу, но может повредить. Умеренное движение полезно для здоровья, но такое усиленное…
— Когда же и бегать, бабушка, как не в мои годы!
— Умеренно.
— Этого я не понимаю, это уже стеснение.
— Вся жизнь неволя, дитя мое!
— Боже сохрани!
— Что же делать?
— Что? Не поддамся! — сказала Юлия, топая ножкой.
— Дитя, дитя!
— Однако, есть важная новость, бабушка! С нею-то я и летела к вам: тайна открыта.
— Какая тайна?
— А мой незнакомец?
— Твой?
— Наш, то есть мой и Марии.
— Я не признаю его своим, — прервала Мария, краснея.
— Когда мне нельзя сказать мой, должна же я говорить наш.
— И что же твой незнакомец?
— Знаю, кто он.
— Вероятно, что-нибудь неинтересное?
— Однако, милая бабушка, он сын того Дарского, о котором вы мне сами рассказывали.
— Сын Дарского? Я не знала, что у него есть сын.
— Он живет где-то в Литве и приехал только навестить отца. Видите ли, милая бабушка (говорила Юлия, добывая крепость приступом), он дал мне слово приехать к нам. Теперь дело в том, кто его представит? У него никого нет знакомых.
Старушка задумалась; видно было, что ей весьма не нравилось приглашение внучки.
— Как? — спросила она через некоторое время. — Он сам напрашивался на посещение?
— Нет, Боже сохрани! Я его пригласила.
— Ты? Ты, дитя мое?
— А что ж здесь дурного, бабушка? Он прекрасно образованный, любезный молодой человек, наш околоток так пустынен; ловлю кого можно.
Бабушка погрозила внучке.
— Смотри, — сказала она, — что он о тебе подумает?
— Подумает, что я приветлива.
— А если это какой-нибудь повеса, который возмечтает…
— Ничего он возмечтать не может. Не так я его звала к себе. Наконец, бабушка, вы исправите мое приглашение и напишите ему от себя.
— Я, душа моя?
— Да, и сегодня же.
— Этого я не сделаю.
— Почему?
— Мне неудобно.
— Напротив, бабушка. Дарские бедны, а облегчить бедному первый трудный шаг для его самолюбия — право, всегда следует. Если бы он был богат, я не говорю.
— Спрашивается, какая нам в нем нужда?
— Для чего людям — люди? Нам тоже нужно общество.