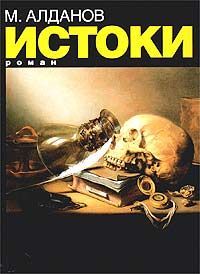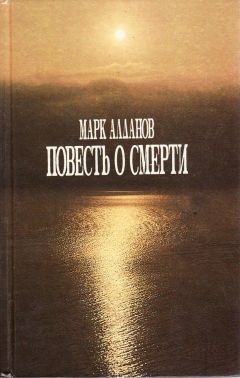— Ради Бога!.. Напротив, я прошу вас сделать мне удовольствие и честь быть моим гостем. Для меня будет величайшим удовольствием, если вы со мной пообедаете.
— Я могу сделать вам и это удовольствие, и эту честь, — благодушно ответил Бакунин. Он произносил «чешть». — Разве вы тоже при деньгах?
— У меня есть деньги… Я свои вещи оставил в Цюрихе, — невольно пояснил Мамонтов в ответ на подразумевавшийся вопрос старика. — Из Флюэлена я вышел пешком, но скоро устал и сел в нагнавший меня дилижанс. Уж очень болели плечи от этого мешка… Значит, мы спустимся вниз?
— А зачем? Там меня облепят люди. Здесь все итальянские эмигранты, простые люди, лучшие мои друзья. Один мальчуган мне нынче руку поцеловал! — смеясь, сказал он, — дурачок этакий!.. Нет, мы с вами пообедаем в этой комнате… Джакомо! — прокричал он так, что Николай Сергеевич вздрогнул. — У них сегодня, я знаю, спагетти, бифштекс и сыр. А ежели вы богаты, то закажите и бутылочку вина, хоть оно у них дрянное.
— Ради Бога! — в третий раз сказал Мамонтов. — Позвольте мне… Вы не можете себе представить, какая для меня радость увидеть живого Бакунина!..
— «Живого Бакунина», — насмешливо повторил старик, впрочем, как будто довольный. — Ну, и что же из этого следует?
— Позвольте мне выпить с вами шампанского. У них, быть может, найдется шампанское?
Бакунин весело засмеялся.
— Отчего же нет? Хотя, должно быть, здесь с сотворения мира никто шампанского не спрашивал!.. Джакомо, у тебя есть шампанское? — обратился он к вошедшему хозяину. Тот сначала было растерялся, но потом гордо ответил, что за шампанским дело не станет. — Верно, он в лавочку пошлет или, может быть, в Цюрих. Но у вас наверное есть деньги, Мамонтов? У меня тут, правда, неограниченный кредит… Неограниченный так франков до двадцати. Однако шампанское мне не по карману… Значит, два обеда и бутылку шампанского.
— А нельзя ли получить что-нибудь à la carte[22]?
— Никогда не заказывайте, молодой человек, ничего à la carte, особливо в дешевеньких гостиницах. Что у них к обеду отмечено, то, по крайней мере, свежо… Два обеда, Джакомо, ему обыкновенную человеческую порцию, а мне мою. И пойди поторопись, мой друг, я голоден, как зверь… Ну вот, будет, значит, пир горой. Ладно, теперь рассказывайте о себе. Вы прямо из Петербурга? Из каких это вы Мамонтовых? Из новгородских? Там, кажется, были помещики Мамонтовы?
— Нет, я не из этих. Мой отец вышел из народа, он был сын крепостного, — сказал Мамонтов. Бакунин взглянул на него из-под бровей, радостно ахнул и оживился.
— Вот это хорошо! Это хорошо! — воскликнул он. — Как вы счастливы, что вы внук крепостного! («Зачем он мне это говорит?» — с неприятным чувством подумал Николай Сергеевич.) — Наше дворянское сословие давно сгнило. Кто это сказал, что Россия сгнила, не успев созреть? Наполеон, что ли? О России это такой гнусный вздор, что и опровергать совестно. А вот дворянство наше, действительно, насквозь прогнило, уж там я не знаю, успев созреть или не успев. Это, верьте мне, очень, очень хорошо, что вы внук крепостного!
— Я думаю, это ни хорошо, ни нехорошо, это просто факт, — сказал Мамонтов. Бакунин опять на него посмотрел. Николаю Сергеевичу казалось, что старик все время его изучает.
— Нет, это отлично. От этого крепче революционное сознание. Мне надоели даже лучшие буржуа. Способные к жизни и к смелому знанию теперь только внизу: работники. Вот почему я хочу и жить, и умереть с ними… В этом проклятый Маркс прав… Вы знаете Маркса? Не врите, будто читали, — смеясь, вставил он. — Его почти никто не читал, кроме его немецко-еврейской своры да еще меня, но вы, верно, слышали о нем? Он немец из евреев, самая скверная из всех возможных национальных комбинаций… Вы не еврей? Нет? А то есть евреи с русскими фамилиями, вроде Утина. Слышали? Об этом индивиде можно бы целый меморий написать, и даже должно, да неохота и времени нет. Впрочем, между евреями есть хорошие люди. Вы в Цюрихе не встречали Рабиновича? Это мой ученик. Он еще юноша, даже мальчик: ему всего лет семнадцать. Способный парнишка! Немцы хуже, гораздо хуже! Нехорошо так говорить, но каюсь, я терпеть не могу немцев! Не во многом я сходился с покойным Герценом, а в этом сходился. Он тоже немцев не выносил… У вас, надеюсь, нет немецкой матушки или бабушки? Хотя среди крестьян смешанных браков не бывает, и это тоже большое преимущество («Хорошо бы, если б он перестал заниматься моим происхождением!» — с досадой подумал Мамонтов). — Наше дворянство на добрую четверть немецкой крови, и это одна из причин, по которым я на него махнул рукой. Наш дворянский Петербург всю жизнь прожил и умрет немцем… Почему это мы заговорили о немцах? Я позабыл…
— Вы что-то хотели сказать о Марксе.
— Да, да, да! Так вот, видите ли, Маркс сказал, что не сознание людей определяет их бытие, а бытие определяет их сознание. Правда, Маркс это разумеет в несколько ином смысле, но это верно и в смысле персональном и единоличном. Вот те итальянские и испанские работники, которым я читаю детские лекции, в их революционность я верю. А в наших дворянчиков не верю! Когда у нас зачнется революция, дворянчики и толстосумы ее и предадут, и погубят, уж это непременно.
— Однако вы сами дворянин.
— К несчастью! — сказал Бакунин. — И даже столбовой: пятнадцатого века. Поэтому верно и накопилось во мне столько всякого дрянца! — Он засопел и тяжело вздохнул.
— И среди немцев, должно быть, есть прекрасные, подлинные революционеры, — сказал Николай Сергеевич, желавший вернуть разговор к Марксу. Бакунин вдруг расхохотался заразительным веселым смехом. Все его огромное тело затряслось. Он опустился в кресло, затрещавшее под его тяжестью.
— Немцы?.. Подлинные революционеры?.. Да где вы это видели?..
— Уж будто нет? — спросил Мамонтов, тоже садясь. Он больше не чувствовал смущения.
— Клянусь, ни одного!.. Я ни одного не встречал!.. Не единой живой души… Ведь я их всех знаю!.. — Он вытер глаза и лоб платком и опять захохотал. — Немцы революционеры!.. Ох, уморил!.. Молода — в Саксонии не была… А вот я в Саксонии была. Даже была там приговорена к смертной казни!.. Нет, брат, немец и революция это идеи невместные. Ежели у них когда произойдет революция, то это будет одна уморушка. А они революцию произведут, непременно произведут, потому в Англии и во Франции революции бывали, а им надо, чтобы у них было как в лучших домах. Они все лакеи, и самое комическое в том, что они этого не замечают… Разве только чуть-чуть подозревают? Немцы на весь свет кричат, что они самая высшая раса. Ну, а в душе, кажется, иногда в трезвые минуты сомневаются: вдруг не самая высшая, а самая низшая? И уж не дрянь ли и не мерзость весь их фатерланд, тысячу раз воспетый их собственными поэтами, — какой же чужой поэт будет их фатерланд воспевать? Хотя нет: едва ли подозревают. Вот англичанин и не говорит, что он самая высшая раса: он в этом так убежден, что тут и говорить не стоит, какой может быть разговор?.. Один только немец и есть не лакей, а великий человек. Это Шопенгауэр. Я в нем теперь умудряюсь. Когда вам пойдет седьмой десяток, купите, Мамонтов, сочинения Шопенгауэра и сделайте из них livre de chevet… Как это по-русски, я свой язык стал позабывать.
— Настольная книга. Шопенгауэр меня не интересует. А вот этот Маркс?
Бакунин вдруг подозрительно на него уставился.
— Послушайте, Мамонтов, вы не марксид?
— Я Маркса никогда в глаза не видал, а с его учением знаком плохо. Приобрел русский перевод «Капитала» и читал, да не совсем кончил, что-то помешало, последних глав не прочел.
— И напрасно, — сказал Бакунин, опять засопев. — «Капитал» — замечательная книга. Я ведь ее переводил… Вы, впрочем, не мой перевод видели. Там вышла одна неприятная история… Конечно, вы слышали?
— Нет, не слышал. В чем дело?
— Не стоит рассказывать. Все равно дойдет до вас, как и ведра других помоев, которыми меня поливали всю жизнь Маркс и его шайка, все его лакеи, Энгельсы, Либкнехты, Боркгеймы и черт знает кто еще. Как только у людей хватает низости и мелкой злобы, просто не могу этого понять. Я знаю, что в политической борьбе грязь неизбежна. На ком ее нет? И на мне много, ох, как много! — сказал он, сопя. — Но этакие подленькие штучки это их специальность. Это их система политической борьбы… Впрочем, не система, а натура, чего они тоже не замечают. Просто они никогда об этом не думают: делают гадости, не мудрствуя, гадость ли это или нет! Ах, когда-нибудь весь свет узнает, что это за народ, — прокричал он злобно, стукнув кулаком по столу, как за час до того на лекции. На столе подпрыгнул подсвечник. — Хотя и грех то, что я говорю… Нет, нет, надо быть справедливым… Вы спрашиваете: Маркс. Я его ненавижу, но он умница, у него замечательная голова. Я не встречал человека ученее, чем Маркс, и я многому у него научился. Голова у него светлая, хотя он путаник и доктринарист… Вы не удивляйтесь: это бывает, что одновременно и путаник, и светлая голова. Такие-то люди именно всего опаснее. И Маркс теперь самый опасный человек на свете, опаснее Бисмарка, с которым он, кстати, во многом схож, особливо же своей ненавистью к славянству.