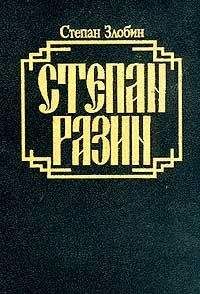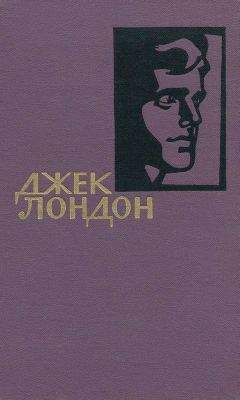Старенький псаломщик не то монах в замызганной, залоснившейся ряске подошел в это время к торговке.
— Агафьюшка, знойко как ныне, весь спекся! Плесни-ка еще мне до завтрева в долг! — попросил он.
Торговка с охотою нацедила ему кружку квасу и сунула, словно не замечая знакомца.
— …Да московский народ наш каков?! — с увлечением продолжала москвичка. — Приветливый, вежливый, независтный; всем приют даст и ко столу-то с собою посадит… Вот то и есть Москва!.. Ты слово-то слушай: «Москва!» Вот то слово так слово! А в праздник народ приоденется во цветные наряды да пе-есни, ка-та-анье!.. Девицы как словно березки… Ты в троицу, малый, знаешь куды сходи…
— У нас на Москве, казачок, чудес не сочтешь! — перебил торговку монах, ставя к ней на прилавок пустую кружку. — Пошто троицы ждать? Когда хочешь на Красную площадь, к Земскому приказу поди — вот где забавы! Палач мужиков дерет, каждый особым гласом ревет; того хлещут плетью, того — батогом, а иного — кнутом. Во гульня где!..
Степан с любопытством взглянул на нового собеседника.
— А за что же их бьют?
— За такие вот скаредны речи, за глум! — не дав ответить монаху, запальчиво взъелась торговка. — Кто треплет — язык урвут, а кто слушает — уши срежут! — Она метнула гневный взгляд в сторону непрошеного собеседника. — Иди ты отсюда, иди подобру! — напала она на насмешника. — Не слушай ты, малый, его. Кто сам худой, у того и все вокруг худо. Каб воров не секли, то на чем держава стояла б?! А ты улицы вдоль пройдя, посмотри, что за домы у нас. Не домы — хоромы…
Монах перебил ее смехом:
— Ты, малый, гляди, каковы хоромы ее, высоки да просторны, — сказал он, кивнув на избушку на «курьих ножках», возле которой стояла торговка.
— Да что ж я, боярыня, что ль?! — простодушно откликнулась та. — Что плетешь!
Степан допил квас, сплеснул остаток на деревянную мостовую, поставил кружку и, уходя, закончил:
— Тебе б торговать не квасом, а сбитнем.
— Пошто? Али квас не добрый? — изумленно спросила торговка.
— Квас — питье студено, а ты горяча. Возле тебя все бы сбитень кипьмя кипел, — вместо Стеньки ответил ей со смешком монах.
Идя по Москве, Степан удивлялся, как много здесь каменных и деревянных церквей, хитрой росписью наряженных в яркие краски с золочеными, алыми, лазоревыми и зелеными куполами в цветах и звездах. Он едва успевал снимать шапку, чтобы креститься. Кое-где вздымались невиданные на Дону и в других городах дома по три яруса, с резными балконами, с расписными теремками, увенчанными словно бы девичьими кокошниками или высокими шпилями с золотистыми шарами, с красными петушками или конскими головами на самых верхушках. Но на больших площадях и на широких улицах рядом с каменными хоромами стояли такие убогие хибарки, каких не видел Степан даже и на черкасских улицах. Из пазов между бревен торчал у них мох или кое-как забитая пакля висела, подобно козьим бородкам… «Срамота-то! Ведь сам государь тут может проехать! — думал казак, глядя на такое убожество. — А был бы я государем — дал бы всем денег, чтобы поставили домы не хуже того, что с тремя петухами под алым шатром. Вот то стал бы город! Кто из послов наедет — и все бы дивились, какая моя Москва!» Иные из уголков Москвы ласкали взгляд пестротой раскрасок, тонким кружевом каменных и деревянных узоров по карнизам и на наличниках окон, хитрой резьбою балясин укрытых крылечек. «А хитры же бывают умельцы на все дела! — размышлял Стенька. — Богатым в утеху над эким оконцем, чай, не менее чем месяц трудился мужик! Чай, деньжищ загреб гору, на целую избу хватит».
Но больше всего дивился Степан не красоте столицы, а ее нескончаемой широте, ее многолюдству, шуму и суетне. «И верно сказала та баба, что слова не слышно от шума! — думал Степан, проходя по Москве. — И куды все спешат, как на круг в Черкасске? А набата не слышно, никто не сзывает. Да то бы шли в одну сторону, а то, вишь, во все концы поспешают!»
Высокие, покрытые мохом, кирпичные стены Китай-города, башни над воротами поразили Стеньку величием. «Вот так стены! Попробуй-ка кто иноземный дерзнуть на них! Как тут взберешься?! Чай, пушек на башнях — не то что у нас во Черкасске! Держа-ава! Вот то могучесть! Вот тут, чай, послам-то зависть: хотели бы под себя нас подмять, ан не сдюжишь!.. Перво все шири степные пройди, одолей казаков, да всяческих ратных людей, да малые городишки. Кажись, уж и все покорил, а дойдешь до Москвы — и увидишь, собака, что впусте трудился: Москвы-то не одоле-еть!..»
Он шел вдоль Китай-городской стены ко Кремлю — сердцу всего государства. Издали указали ему стройные шатры кремлевских башен и золотую шапку Ивана Великого. По пути Стенька встретил несколько похорон и две свадьбы.
«Тут столько народу, что каждый час кто-нибудь помирает да кто-нибудь родится», — подумал Степан.
У ворот, ведущих на Красную площадь, Степан увидел большую толпу людей возле часовни.
— Чудотворная божья матерь, — пояснили ему.
— От ран помогает? — спросил он монаха.
— От всех скорбей и недугов целятся люди у чудотворного образа, — ответил тот.
— А можно за батьку?
Монах не понял его.
— Ну, раны-то не мои ведь, батькины раны! — нетерпеливо растолковал казак.
— Язычник ты, что ли?! — Монах покачал головой. — Иди да поставь свечу да молись с усердием! — посоветовал он.
Степан повернул к часовне.
Но возле часовни вместо молитвы шла давка: толпа окружила какое-то зрелище.
— Рожу тебе побить аль в приказ отвести? — кричал дюжий торговец, тряся за ворот щуплого мужичонку. — Рожу бить аль в приказ?..
— Сказывай: лучше по роже! — посоветовал один из зевак.
— Бей по роже, — покорно сказал мужичонка.
— За что его? Что стряслось? В чем он винен? — расспрашивали друг друга в толпе.
— Шапку в часовне покрал…
— Во святом-то месте?! Ведь эко их сколь развелось! Как собак, перебить их, поганых! — переговаривались в толпе.
Степенно, со смаком, любуясь робостью вора, купец отступил на шаг, скинул с плеч свою однорядку.
— Подержи-ка…
И бросил на руки одного из зевак.
— Не жалей, проучи его, дядя, чтобы другим неповадно! — выкрикнул кто-то.
Купец неторопливо подсучил рукава рубахи, деловито плюнул в кулак и ударом наотмашь в ухо свалил вора с ног.
— Вставай, еще раз заеду! — потребовал купец, самодовольно оглядывая зрителей, словно ища одобренья своей выходке.
С помутившимся взглядом мужичонка, шатаясь, покорно встал перед своим палачом.
— Бей еще, коли нет в тебе сердца, — сдавленным голосом через силу сказал он.
— Буде! Хватит с него! Небось ухо-то выбил! — раздались из толпы голоса.
— А шапки собольи красть есть в тебе сердце?! — издевался купец. — Мало — ухо, печенку выбью! — свирепо добавил он и со злобой еще раз ударил вора «под ложечку».
Мужичонка осел, подогнул колени и как-то боком упал. Голова его стукнулась об утоптанную жесткую землю.
— Бог троицу любит. Вставай! Еще в третий! — крикнул купец.
Но вор лежал неподвижно навзничь в пыли. По бороде изо рта струйкой сочилась кровь. Сочувствие толпы обратилось теперь к нему.
В народе прошел ропот.
— Убивец! — выкрикнул одинокий голос.
— Чего ему станет!.. Пройдет! — деланно и беспокойно усмехнулся купец. — Эй, у кого моя однорядка? — повернулся он.
— У собаки! — насмешливо крикнули из толпы.
Купец растерянно озирался: однорядку кто-то унес…
Раздвигая толпу, перед часовней явились двое земских ярыжек.
— Вот они, злыдни ягастые. Богатым заступа, народу беда! — выкрикнул кто-то в толпе.
— Знамы язычники! — подхватили вокруг, намекая на знаки земских ярыжек — буквы «3», «Я», красовавшиеся на груди их кафтанов справа и слева.
— Зевласты ябеды!
— Змеи ядовитые! — выкрикивали вокруг, стараясь толпой оттеснить ярыжных от побитого мужичонки, чтобы дать ему скрыться.
— Чего тут стряслось? — спросил старший ярыжка, не обратив внимания на обидные клички, к которым они привыкли.
— Шапку вон тот в часовне покрал у меня, — указав на побитого, злобно сказал купец. — Я его в рожу зепнул, а товарищ его в те поры унес у меня однорядку аглицкого сукна. Тащите его в приказ.
— Все видали — ты сам однорядку отдал! — выкрикнул кто-то из толпы.
Побитый купцом мужичишка только теперь очнулся и обалдело, молча глядел на людей.
— Вставай! — толкнул его сапогом ярыжный. — Идем в приказ! — позвал он и купца.
— Под пыткой теперь стоять мужику, — предсказал кто-то рядом со Стенькой. — Купец-то того, кто унес однорядку, ему товарищем назвал!..
Степан смотрел на все, сжав кулаки. И вдруг не заметил сам, как вся прямая душа его возмутилась и закипела.
— Да где ж в тебе совесть, поганское сердце?! — воскликнул он, подступив к купцу.
Тот взглянул в глаза Стеньки и испуганно отшатнулся, зачем-то крестясь…