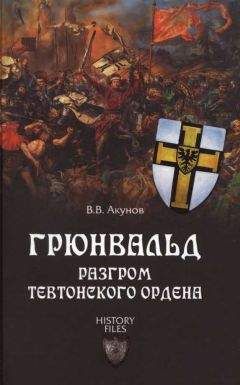Витовт, не терпевший вина, чарку едва пригубил. И без вина было легко на душе. Явившемуся Ильиничу кивнул сесть возле Цебульки и громко, обязывая всех к слушанию, приказал: «Ну, рыцарь, выпей и хвались!»
Слушал Ильинича пристально, переспрашивал и уточнял, особенно о потерях: сколько своих намертво, сколько выживет, посочувствовал беде Мишки Росевича, полюбопытствовал, как Швидригайла бился в бою, и, к Андрееву удивлению, больше всего зажалел осадников, словно родню потерял: вот, народцу и без разбоя тяжко – сами землю осваивают, горбом поля корчуют, на порубежье в вечном страхе живут, а беглый князь хуже немца своих людей выбивает.
Кто больше Ильинича понимал в княжеских делах, затихли, как мыши, разумели, к чему клонится: уж если за ничтожных осадников, за три никчемных двора так горюет, чуть ли не слезы льет – все, конец Швидригайле. А князь вел свое:
– Вот, мало что мужиков посек, еще и хаты велел пожечь. Огонь любит, пожары. Страсть неуемная – поджигать. У Василия Дмитриевича, зятя моего, Серпухов сжег, осадников моих пожег...– И, припомнив, обернулся к жене: – Помнишь, Анна, как в Гродненском замке горели?
Княгиня печально улыбнулась.
Витовт тоже улыбнулся, но зло, и стал рассказывать, хоть многие, для кого вспоминал, сами претерпели в том огне.
– Как сейчас было – на дзяды, десять лет назад. Утром выпили, в обед, на вечерю, и мы с княгиней спать. Просыпаюсь – духотища, смрад, и кто-то жуткий, лохматый, хвостатый мне грудь раздирает когтями. С похмелья голова кружит, не соображаю – явь или сон. Думаю: сон – бесы снятся. Но больно этак дерет, оттаскиваю – опять наскакивает и – цап, цап! – нос, уши рвет, горло щиплет. Думаю: нет, не сплю, но точно бесы. И слышу: горестно кричит, просто жутко, дико; думаю: не может бес горевать, хихикал бы рогатик. Собрал силы, веки размежил – волосы дыбом потянуло: дверь, стена тлеют – пожар, а мы лежим, угораем. Вот мартышка моя смерть от нас с княгиней и отвела. Я княгиню на руки, мартышку на плечо, дверь ногой выбил – и во двор. Тоже кто-то поджег.
Хоть и сказал «кто-то», но само собой увязывался старый гродненский пожар со Швидригайлой. Тут палил, там палил, мог и замок поджечь, загубить князя Витовта. Почему бы и нет? Ну, не сам, самого в тот день в Гродно не было,– подкупил челядь. Могли, конечно, и с ведома Ягайлы устроить пожар. Тогда князь и король крепко враждовали, Кревская уния была порвана, Витовт набрал силу – с поляками не считался. И повод дал немалый смерти желать: на Немане без совета с Ягайлой договор заключил с крыжаками, по этому случаю пировали, и бояре, напившись, стали кричать: «Пусть живет Витовт – король Литвы и Руси!» Ягайла, узнав, страшно разгневался. Могли его прислужники постараться, наняли замковую стражу. И впрямь, не будь мартышки, угорели бы намертво. Но сейчас неудачное то покушение поворачивалось на Швидригайлу, еще один грех ложился на него для пущей убежденности в пользе расправы. Явственно касалось застолья колкое, холодящее предчувствие, что сейчас, в ближайшие минуты, будет сказано: «Князя Болеслава решил казнить!» А вырвется слово, великий князь его назад не возьмет. Но Витовт не торопился.
– Ну, а вы,– спросил Андрея,– помогли хату затушить?
– Сечь кончили – помогли,– сказал Андрей. Князь хитро улыбнулся:
– Чупурна! Вот сотник поджигателей порубил. За доброе дело – выдать ему сто пражских грошей! – И осадил рванувшегося валиться в ноги Ильинича: – Сиди! Тебе сегодня везет.
– Еще и на крыжаках заработает,– подсказал Монивид.
– Крыжаков я у Ильинича выкуплю,– неожиданно заявил Чупурна.– Мой родич у крыжаков в плену, в Кенигсберге, в подвале на цепи кукует, буду обменивать. Что, Ильинич, какая твоя цена?
После щедрых княжеских наград следовало великодушничать, и Андрей ответил:
– Если пану Станиславу надо, я без выкупа уступлю.
– Ха! – засмеялся Чупурна.– Уступаешь – беру! Жалко было денег, щемило Андрея, но знал, что больше выигрывает, чем теряет. Нужда наперед неизвестна, а подарок запомнится, и на людях сделан – всем понравилось, случится какая важность – можно смело маршалка просить, он большую власть держит в руках.
О крыжаках чуть было сказано, но сразу все оживились, и весело, дружно Жигимонт Кейстутович, Монивид, Монтыгирд стали вспоминать князя Кейстута: как лихо из плена уходил, храбро рубился, как водил дружины литвинов на Лысую Гору брать лупы с польского монастыря. Крепко тот монастырь облупили, гвоздя не оставили; действительно, та гора лысой стала. А поляки вдогонку только слух пустили, будто Лысогорская икона Богоматери камнем легла на воз, с места тот воз стронуться не мог. А те, кто снимал ее со стены, будто в тот же день и умерли страшной смертью. Смех! В голове богу польские иконы! Что и впрямь легло камнем на возы, так что кони едва тянули,– так это сокровища из лысогорской скарбницы. Два столетия их монахи собирали – наибогатейший был монастырь. Вся Польша плакала после того наезда. Славные были времена!... Тут все старые приятели князя Витовта и он сам как-то одновременно притихли, припомнив, что они уже давно сами католики, и непристойно им выхваляться такими грехами...
Андрей внимательно слушал и благодарил бога за свое счастье! Повезло, как одному с сотни тысяч везет! Взял Швидригайлу – и все, наверху, действительно, из грязи в князи. С трудом пять коней выставлял, сейчас пятьдесят пять будет выводить. Своя хоругвь. Это же сколько деревень подарит ему Витовт. Дворов, может, пятьсот! Ну, пусть чуточку меньше. И деньги появились. Вот отец подивится! Жаль, что нельзя сейчас в Полоцк отъехать. И дзядам будет радость. Пошли Ильиничи в гору, может, со временем и в наместники попадем, может, не только сегодня, но и часто придется за этим столом сидеть... И дурман удачи, мечты, всегдашнего успеха хмелил Андрея сильнее, чем вино Витовта, краем уха слушая похвальбы отцу, не отступал мыслями от Швидригайлы. Сомнение занозило, ершило, удерживало объявить вслух: «Казню!» Думал: казнить легко. Казнил, схоронил, ну и что выгадал? На белом свете нет? Держать в подвале – то же самое, словно нет. Старая, отточенная за годы осторожность подсказывала: невыгодно казнить. А уж если выдавать палачу, пусть и Ягайла руку приложит. Иначе ославят: Витовт – кровожадный кат, Ягайла – милосердный ангел. Пусть живет, оставлю жизнь. Но не даром же? Что даром, то не помнится. Даром Швидригайле давали то Витебск, то Новгород-Северский, то Брянск, то Подолье – он не помнил добра, бросал. Проскочило в уме: «Подолье», и сразу вся затея ровно сложилась: не медля, после снеданья, продиктовать Цебульке письмо для короля – мол, Швидригайла вступил в союз с Ульриком фон Юнгингеном против короны и княжества, готовился в спину ударить, когда тронемся отнимать: вы – Добжинскую, мы – Жмудскую земли. С божьей помощью схвачен, сидит на цепи. Пусть задумается, что с братцем делать. А через месяц в Бресте съезд. Там уж твердо: если Швидригайле жизнь, нам – Подолье. Хватит, попользовались поляки лучшими землями, пора назад возвращать. И ведь согласится, чтобы побольше людей привели на войну. А Швидригайлу на месячишко в Крево, в большую башню, где князь Кейстут и он, князь Витовт, отметились ногтями на стенах. Камни осклизлые быстро остудят кровь. А затем в Кременец, туда никто не дотянется, ни немцы, ни приспешники, беглому пруссаку Конраду Франкенбергу под охрану, у него дьявол не сбежит.
И, решив судьбу стрыечного брата, Витовт забыл о нем, развеселился, перебил Жигимонта, сам завспоминал, как требовал того праздник, о памятных делах своих дзядов.
Старый Иван Росевич, встретив на дороге сына, не верил, что довезет его домой с душой в теле. Однако бог милостив, внесли под родной кров живым. Стали глядеть рану – мать, Софья, Еленка, бабы-челядницы в плач: из свищей текла гнойная кровь, жизнь была на последнем нетлении, вот-вот загаснет. Если и оставалась в Мишке жизнь, то небесная, потому только и дышал, было видно, что запаздывала, ходя по другим, смерть.
Более скорые зашептались, что надо спешить везти из Волковыска отца Фотия – пусть причащает и отпоет. Но тут кто-то из дворни вспомнил о Кульчихе, возгорелась надежда: вдруг колдунья осилит выправить? Гнатка поскакал за ней, и скоро древняя старуха переступала порог. Одета была в черную рубаху, а поверх – в изношенный, изгрызенный мышью кожух и обмотана вороньего цвета платом. Никто не знал, сколько ей лет, считалось, что живет третий век – до того пригнулась к земле, ужалась, укоротилась, стемнела лицом, только колкие глаза светились среди морщин. Войдя, Кульчиха ни на кого не взглянула, никому слова не сказав, прошла к Мишке, отвернула тулуп, задрала рубаху и длинным заскорузлым пальцем потыкала прямо в рану. Из Мишки выдавился мучительный стон. Колдунья вновь тыркнула пальцем в свищ – посильнее – и захихикала, когда Мишку исказило от дикой боли.
– Вези, вези хлопца,– проскрипела Кульчиха, повернувшись к старому Росевичу.