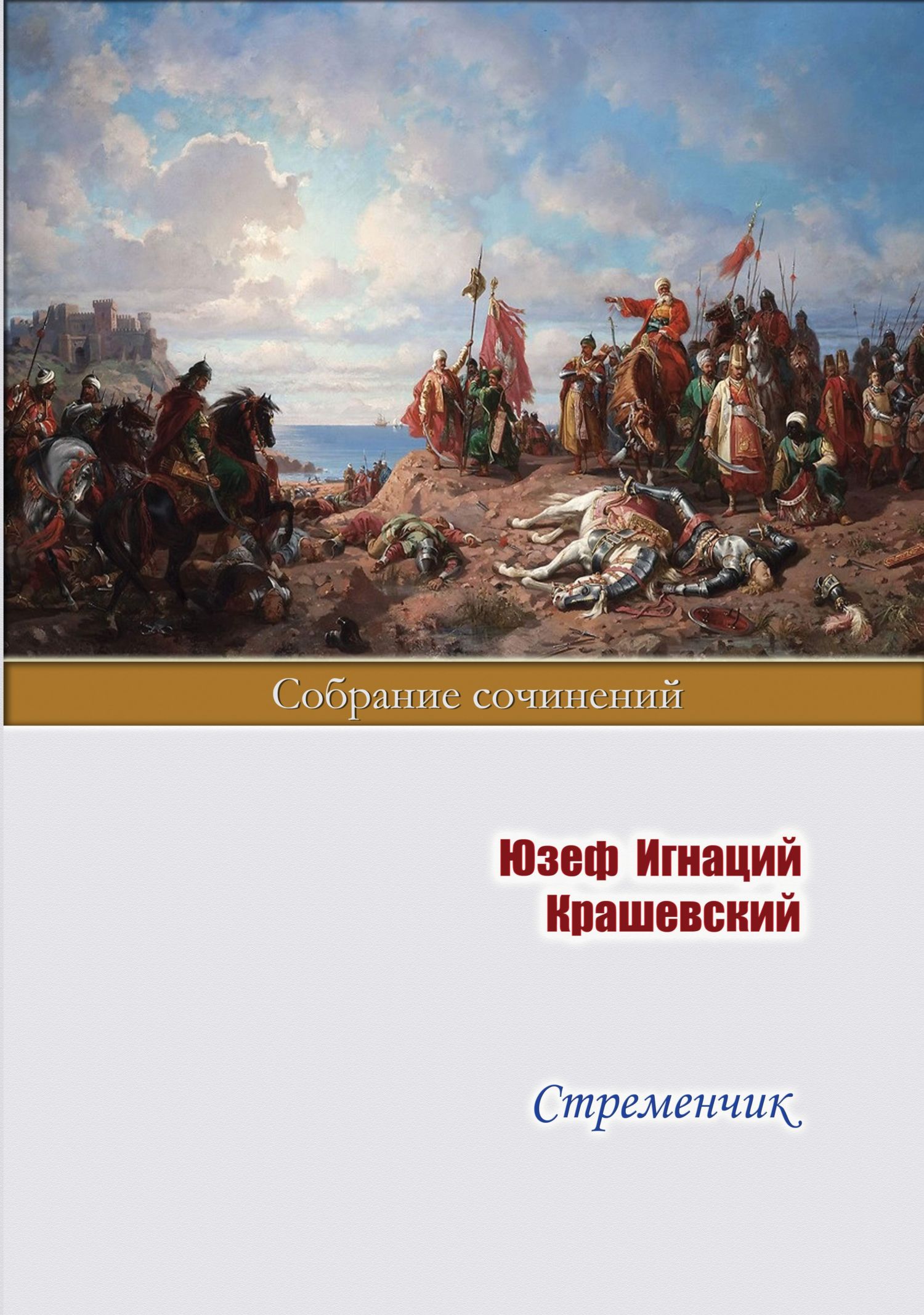что старшие не раз устраивали драки с ремесленной челядью и один Журавек мог их в дисциплине и кулаке, как говорил, удержать.
Хоть он ходил в чёрном убранстве клирика, фигуру имел вовсе не духовную и больше выглядел слугой или городским чиновником.
Учащимся было не разрешено носить какое-либо оружие, и духовному облачению оно не подобало, но смотрели сквозь пальцы на то, что Журавек всегда ходил с обушком либо даже кордом под полой. Они были ему нужны, потому что поссорившихся часто голыми руками разорвать было нельзя, нужно было бить палкой либо мечом плашмя.
Широкоплечий, высокий, костистый, с низким лбом, с впавшими глазами, с лицом всегда нахмуренным и насупленным, Журавек нагонял на детей страх. Голос также имел такой, что, когда кричал на рынке, его почти у Флорианских ворот было слышно.
Он ходил важно, не спеша, но, имея длинные ноги, всегда догонял того, кого схватить было нужно.
Где подкреплялся и чего одевал, знал только он один, не столовался нигде, а голодным не был, а пива, которое любил, хватало. Кормили его и поили все, начиная от евреев до духовенства.
С подчинённой ему молодёжью он обходился не мягко, утверждая, что эти вши (так неприлично выражался), съели бы его, если бы их не кормил. Доброго слова он не сказал никогда никому, а редко, какие волосы и уши остались перед ним целы.
Его принцип состоял в том, что надо было при первой встрече вызвать страх, потому что иначе послушания удержать нельзя. Не делал никому поблажки, и знали, что с ним не до шуток. Самек не предостерегал Гжеся о том, что ждало его у Журавка, уже был зол на него и желал ему, что миновать не могло: чтобы патер поставил его на место.
Они входили в Канонну, когда Самек заметил выходящего из своей каменицы Журавка, с румяным лицом и обухом в руке.
Поэтому он побежал вперёд, чтобы выполнить посольство каноника, и, показав Гжесю патра, сам дал стрекоча.
Журавек стоял хмурый, ожидая обещанного студента, начал строго его расспрашивать. Гжесь, хоть встревожился, не чувствовал себя виноватым, отвечал смело, патер ещё сильней насупился, слушая.
– Кто не слушает отца, мать, должен слушать бычью кожу! – воскликнул наконец Журавек. – Понимаешь ты это?
Гм? Ты сбежал от отцовского ремня, но у меня также есть дисциплина и я не жалею её!
Мальчик молчал, опустив глаза…
Последовали вопросы и ответы, принимаемые насмешливо, и после повторяемые угрозы… В конце, побранив Гжеся без вины, Журавек повёл его за собой, чтобы указать ему те дома и улицы, на которых разрешено было просить милостыню.
– А если тебя где-нибудь в другом месте поймают мои старые студенты, – добавил он, – такие получишь побои, что до судного дня будешь помнить.
Обхождение было такое суровое, что встревоженный Гжесь онемел.
Бороться с голодом и недостатком он готов был всегда, но со злой волей не имел силы.
Журавек, не в силах добиться от него ни слова, заметил, что испугал мальчика достаточно, забормотал что-то ещё, погрозил и с ворчанием его отправил.
Гжесь стоял ещё на месте, на котором его бросил патер, когда ему по счастливой случайности навязался вчерашний Дрышек, который ничего о его судьбе не знал. Он сразу его узнал, а вероятно, вчерашнее пиво дружески его к нему расположило.
– Как у тебя дела? – спросил он.
Гжесь начал ему рассказывать.
Он не скрывал того, что много потерял из вчершней отваги, и хотя каноник снисходительно его принял, патер за Божье создание его не считал.
Дрышек рассмеялся, пожав плечами.
– Не бойся, – сказал он, – он больше бурчит, чем кусает, а лишь бы ты со студентами познакомился и с ними держался, не сделает тебе ничего. Что иногда за волосы схватит, либо за ухо покрутит, это у нас хлеб насущный, от этого люди не умирают.
Дрышек сразу предложить помочь познакомиться со старшими студентами костёла Св. Анны.
Обычаи и у бедных студентов уже в то время в подражание традициям высших школ, хоть тайно и украдкой, каждого нового пришельца вынуждали откупиться от пыток, которые под предлогом обтёсывания неучей устраивали новичкам.
Бедные студенты имели даже такую гостиницу, в которой жертвенным козлам, прибывшим, отпиливали рога и отрезали нескладные брусья, чтобы приобрели хорошие манеры.
В Гжесе объявление об этих обрядах пробуждало страх и отвращение. Он начал упрашивать Дрышека и готов был все деньги отдать ему на угощение, лишь бы избавиться от отпиливания и обтёсывания.
Мальчик, взяв деньги, придал ему смелости, сказав, что не даст его обидеть, и всё пройдёт легко.
Очищение должно было пройти вечером… Ещё нужно было идти к прецептру (учителю) нищенствующих и этому также представиться. Дрышек указал место и час. Они расстались, откладывая на вечер вторую встречу.
Несчастный, голодный, уставший, Гжесь в конце концов должен был подумать о себе, и, наткнувшись на то схоронение под досками, съел там остатки хлеба и сыра.
Усевшись там, он грустно задумался; та жизнь, которую желал, начиналась сурово и грозно. На самом деле, было это только начало, но оно не пророчило лёгкого пути.
Отступать уже было не время…
Он чувствовал, что в Самек уже стал его врагом, а ужас, какой пробуждал отец, тут чужой пробуждал в нём. Он помолился, вытер слёзы, посидел в укрытии и в конце концов из него выбрался.
Ещё в этот день ему предстояло познакомиться в гостинице с товарищами и зачислиться в эту группу, послушной частью которой должен был быть.
Дрышек был ему немалой помощью. Он устроил так, чтобы старшим больше осталось пива, что младших в гостиницу не звали. Окончилось несколькими толчками, лукавыми вопросами, лекцией о том, как нужно было держаться группы, и хоть бы тебя жарили и варили в смоле, никому не говорить, что делалось в школе. Пиво и братские поцелуи докончили обряд, после которого Гжесь вздохнул свободней.
Самек, который не появился на очищении, добавил от себя предостережение, что если бы, упаси Боже, подлизывался к канонику и выгнал его из каморки, пусть лучше потом выезжает из города.
Гжесь как-то почувствовал себя смелей.
– Слушай-ка, – сказал он, – я к ксендзу канонику сам не напрашивался. Ты привёл меня к нему… Не буду утаивать, что он велел мне показать, как я пишу, и почерк ему понравился. Если он мне потом за опеку надо мной прикажет переписывать, разве я буду в этом виноват?
– А я тебе только то скажу, слышишь, – прервал Самек, – что если он меня выпихнет, я на твоей спине буду искать мою потерю!
Гжесь