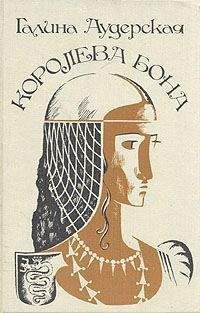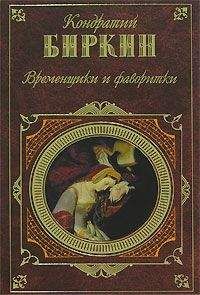Но Марина впервые ослушалась свою госпожу. Схватив завернутую шкатулку, она бросилась к двери и, открыв ее, принялась громко звать Паппакоду.
Он сидел в соседней комнате у окна, но, увидев испуганную камеристку, тотчас вскочил.
— Пришла в себя?
— Да, о да! И кажется… кажется, ди Матера обманул вас.
— Этого быть не может! Идемте к ней.
— Идите один, я сейчас вернусь. Никак не опомнюсь от страха…
Оттолкнув Марину, Паппакода вбежал в спальню. Когда он увидел Бону, пытавшуюся сесть, его объял ужас. Он с изумлением глядел на то, как она, спустив босые ноги на пол, в каком-то забытьи пыгается идти к нему. Он не сделал ни шага ей навстречу, но королеву уже покинули силы. Чтобы не упасть, Бона обеими руками ухватилась за деревянную резную колонну красного дерева, ту, что поддерживала балдахин над ложем. И стояла, держась за нее, дрожа от холода и боли.
— Воды! — прошептала она охрипшим голосом. — Воды! Паппакода не шелохнулся, но услышал новое распоряжение.
— Зови… Зови свидетелей! Хочу составить… завещание, — бормотала она.
— Государыня, — смиренно объяснял он королеве, — вы забыли, что вчера, перед тем как заснуть, уже продиктовали и собственноручно подписали одно завещание.
Бона покачала головой, попыталась сделать еще шаг и опять ухватилась за колонну.
— Не помню… Может быть… — с трудом шептала Бона. — Но нет! Нет! Все не так! Я сама, сама… Сейчас. Позови нотариуса… Поторопись.
— Быть может, лучше… — увещевал ее Паппакода, но Бона крикнула глухим, низким голосом:
— Живо! Пошли за ним!
— Слушаюсь…
Перепуганный Паппакода побоялся ослушаться. Кто знает, быть может, Марина права, медик обманул их обоих, не желая подвергать себя риску. Выходя из спальни, Паппакода заглянул в гардеробную. Ди Матера по-прежнему лежал на полу без сознания, дыхание у него было свистящее, прерывистое. Бургграф невольно удивился: «Королева намного старше, выпила большую дозу — и сама встала с постели, а этот…»
Закрыв гардеробную на ключ, он бросился к двери, громко крикнув:
— Марина! Светлейшая госпожа зовет вас к себе…
На пороге, пропустив Марину в спальню, он шепнул ей:
— Ни капли воды! И ни слова о том, что вчера подписано завещание.
— Она пришла в себя?
— Увы, это так! Не трогайте ее, пусть стоит, пока не подкосятся ноги. И следите, чтобы никто не вошел в комнату…
Нотариус Сципио Каттапано, приятель и дальний родственник Паппакоды, вовсе не удивился, застав королеву сидящей в кресле, к которому вплотную был пододвинут столик. Перед этим Паппакода обстоятельно разъяснил ему, что принцесса Бари накануне, почувствовав себя плохо, оставила завещание, в котором весьма существенно задевала интересы короля Филиппа, а сейчас, видимо, не желая считаться с интересами испанского короля, и вовсе решила его изменить. Поэтому нотариус, будучи преданным слугой Габсбургов, не видел ничего плохого в том, что заключит сделку с Паппакодой, выгодную для себя и, возможно, в будущем, для Филиппа Второго.
Бона была очень бледна, казалась постаревшей сразу на много лет, но никто не посмел бы отрицать, что нотариус записывал волю женщины, находящейся в здравом уме и светлой памяти. Его несколько удивляло ее хриплое дыхание и то, что каждое слово дается ей с трудом. Она то и дело просила дать ей хоть каплю воды. Нотариус даже хотел было прервать запись и выполнить ее просьбу, но не отходившая от Боны камеристка прошептала, что из-за больного горла лекарь запретил ей пить.
Нотариус понимающе кивнул головой и продолжил составление завещания. Оно было довольно кратким, королева завещала все свои владения в Польше и Италии, все свои драгоценности, серебро и золото своему единственному наследнику, любимому сыну королю Сигизмунду Августу. Дочери по этому завещанию получали скромные пожалования, никто из Габсбургов и из многочисленных придворных в документе назван не был.
Дрожащей рукой Бона с трудом подписала завещание, и у нотариуса не оставалось никаких сомнений, что принцессе Бари жить осталось недолго. Скрепив своей подписью достоверность документа, нотариус встал, выжидающе держа свиток в руке. Он полагал, что королева может изменить план Паппакоды, но в этот момент она закрыла глаза и, отодвинув коленями столик, стала медленно сползать с кресла Тогда нотариус, как и было условлено, направился к двери и передал Паппакоде документ. Кроме их двоих и Марины, в спальне не было никого, кто мог бы потом подтвердить под присягой, что собственными глазами видел, как нотариус передал Паппакоде второе завещание, получив взамен из его рук довольно солидный и увесистый кошелек…
Едва он вышел, королева приоткрыла глаза, и из груди ее вырвался жалобный стон, похожий на плач…
— О боже! Что со мной? Где медик? Позовите ди Матеру, — простонала она.
— Он сейчас будет, я приказал его найти, — отвечал Паппакода.
— Мне плохо, кружится голова, спасите… — прошептала она.
— Госпожа, позвольте я помогу вам лечь, — вмешалась Марина, но королева, потеряв силы, видно, не утратила памяти. Последним, слабым движением руки она оттолкнула камеристку и снова стала сползать на пол. Бургграф, подхватив королеву, потащил ее к постели. Ноги и руки у нее беспомощно повисли, из уст вырывалась одна и та же мольба:
— Пить… Жжет…
Паппакода и Марина, с трудом дотащив обессиленную королеву, уложили ее в постель. Она хрипела, извиваясь от боли, и им немалых усилий стоило накрыть ее простыней. Уже ничего не видя, она твердила:
— Бойся… дракона… ядовитых… снадобий…
— Она бредит? — спросил Паппакода.
— О нет, — возразила Марина. — В точности повторяет слова астролога, которые некогда он сказал ей в Бари. Неужели поняла? Знает!..
— Не все ли это равно? Сейчас? — удивленно пожал плечами Паппакода. — У меня еще столько дел. Ключ от гардеробной спрячьте подальше. Оставляю вас одну. Помните, ее хватил удар…
Он вышел, а Марина уселась в кресло, настороженно всматриваясь в лицо умирающей.
К полудню Марину сморил сон, а когда она очнулась, была глубокая ночь. Паппакода не приходил, королева лежала молча, даже не стонала больше. Тогда Марина вернулась к прерванному занятию.
Она торопливо принялась собирать в узлы все добро, находившееся в спальне Боны: покрывала, подсвечники, шитые золотом платья. Не забыла и про дорогие меха, гобелены. Скоро в опочивальне, освещенной только одной-единственной свечой в серебряном подсвечнике, стоявшем возле ложа, сделалось пусто. Марина, достав из кармана ключ, поспешно заглянула в королевскую гардеробную, где возле стены, скрючившись, лежал ди Матера. Перетащила туда награбленные вещи и снова закрыла дверь на ключ. До утра, полагала она, в опочивальню никто не войдет. Каково же было ее удивление, когда уже на рассвете соседняя комната стала заполняться людьми: видно, кто-то из свидетелей проболтался слугам о том, что королева умирает. Слышен был топот ног, грохот передвигаемой мебели, шум голосов. На появившуюся в дверях Марину никто даже не обратил внимания, каждый был занят своим: тащили все, что могли, срывали со стен ковры, гобелены, канделябры. Только теперь камеристка спохватилась и пожалела, что не выпросила у Паппакоды большего, ведь она могла взять себе все, что находится в замке. Она осталась стоять в дверях, боясь того, что кто-нибудь проникнет в опочивальню и, не дай бог, в гардеробную. Только старый конюший Гаэтано вымолил у нее позволения взглянуть на королеву в последний раз.
— Вот уж не ожидал, что принцесса умрет раньше меня. Дайте только взглянуть в последний раз… — сокрушался старый слуга.
Разрешив ему войти, Марина тотчас же закрыла за ним дверь, подошла к ложу и погасила свечу.
Занимался новый день, а старый слуга все смотрел на измученное лицо королевы, на ее безжизненное тело. Сколько раз когда-то слышал он из ее уст слова приказа, а сколь очаровательна была их улыбка. Не думал старый Гаэтано, что наступит такой час, когда он увидит неподвижное лицо своей госпожи, польской королевы, ее сухие, потрескавшиеся губы. Их надо смочить, подумал он, оглянулся, нет ли поблизости серебряного кубка, но никакой посудины, кроме стеклянного графина, не было. Исчезло все, даже стоявший на столике подсвечник, в котором еще недавно горела свеча. Гаэтано смочил конец простыни и приложил к губам королевы. Лицо ее оставалось неподвижным, капли воды стекали по подбородку и шее. Он стоял и ждал хоть малейшего признака жизни, стоял и ждал… И вдруг — это было совершенно неожиданно — она открыла глаза, он увидел в них дикий, безумный страх, и тут же они померкли, остекленели. Гаэтано подошел ближе, наклонился над умершей, своими грубыми пальцами прикрыл ей веки, сложил руки на груди. Поднял с пола валявшуюся свечу, но подсвечника нигде не было, тогда он распахнул окно и, отломав кусочек черепицы, прикрепил к ней свечу, поставил в изголовье.