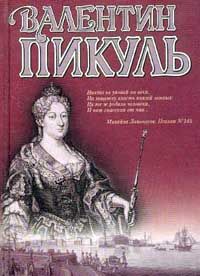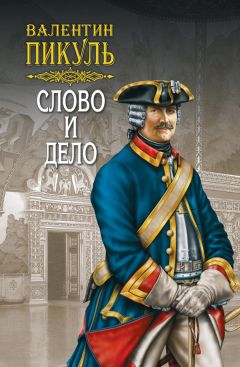— Вот до чего мужчина опытный может напужать меня, слабую женщину!
Отчего был смех продолжительный, смех подхалимский, и она пошла дальше, собой довольная…
Возле китайских послов задержалась:
— Кого же вы из дам моих самой красивой считаете?
— В звездную ночь, — отвечали китайцы, кланяясь, — трудно сказать, какая из звезд самая прекрасная. Но есть звезда на небосклоне двора вашего, которую не заметить трудно… Это цесаревна Елизавета с глазами зелеными и круглыми, как у кошки.
Анна Иоанновна нахмурилась:
— А что самое удивительное для вас у двора моего?
— Самое удивительное — видеть тебя на престоле!.. В глубине залы стояли пленные французы (которые уцелели), вывезенные из Копорья, с любезной улыбкой Анна Иоанновна к ним подошла.
— Довольны ль вы? — спросила.
— Мы благодарны вашему генералу Лопухину, — отвечали французы дружно. — Он научил нас шалаши строить, он кормил и поил нас… Мы так и представляли себе русских людей — добрыми и благородными!
— Рада слышать от вас слова дружественные… Фельдмаршал! — позвала она Миниха. — От щедрот своих дарю каждому французу по тулупу в дорогу да по валенкам. Пущай едут в свою Францию, славу обо мне по миру развозя!
К французам робко приблизилась Елизавета Петровна.
— Нет слов, — шепнула, — передать мне, как я люблю Францию… Приходите ко мне, в дом на лугу Царицыном, я научу вас, как надо ноги обернуть в дороге, чтобы не мерзли… Морозы трещат лютые!
Ночью, вернувшись из дворца, леди Рондо при мерцании свеч писала письмо в Англию — своей подруге:
«Зала была украшена померанцевыми и миртовыми деревьями в полном цвету. Деревья, расставленные шпалерами, образовывали аллеи, которые доставляли возможность гостям часто отдыхать, потому что укрывали садившихся для поцелуев от нескромных взоров. Красота, благоухание и тепло в этой дворцовой роще (тогда как из окон видны только лед и снег) казались чем-то волшебным и наполняли душу мою приятными мечтами. Аллеи были наполнены изящными кавалерами и очаровательными дамами в праздничных платьях, вроде костюмов аркадских пастушков и нимф. Все это заставляло меня думать, что я нахожусь в сказочной стране фей, и в моих мыслях, в течение всего вечера, был „Сон в летнюю ночь“ Шекспира… Простите», —
закончила леди Рондо, —
«мне болтовню женщины, только что разрешившейся от бремени ребенком!»
* * *
В древнем селе Архангельском под Москвою занесло тропки. Снег — ласковый, чистый, пушистый. И на нем по утреннику — следки: вот воробей рылся, тут кошка от кухонь пробежала, а человечий след — острый, глубокий, опасный… Это прошел, размышляя и мучаясь, опальный верховник — князь Дмитрий Голицын.
В сенях девки подбежали — обмести снег с валенок князя. Прошел в кабинет к себе, полистал сенатские дела, кои иной раз присылали к нему из Петербурга. Сына вот не стало рядом: отбыл князь Сергей Дмитриевич в Персию — послом к Надиру, и не с кем более печали с души отвести…
— Емеля! — секретаря кликнул. — Хоть ты приди!
Вошел Емельян Семенов с пером за ухом, держа в руках раскрытый том Боккаччо на итальянском, учтиво поклонился, выжидая.
— Прочти вот… Расходы российские! Семенов с опаской глянул в реестрик, составленный Голицыным:
«2600000 рублей — на содержание двора Анны Иоанновны.
1200000 — на нужды флота российского.
1 000 000 — на содержание конюшен для Бирена.
460118 — на жалованье чиновникам государства.
370 000 — на развитие русской артиллерии.
256813 — на строительство Санкт-Петербурга.
77111 — на родственников императрицы.
47371 — на Академию наук и Адмиралтейство.
42622 — на мелкие расходы Анны Иоанновны.
38096 — на пенсии ветеранам, инвалидам войн.
16000 — на народное здравоохранение.
4500 — на народное образование».
— Я прочел, князь, — ответил секретарь.
— Со вниманием ли прочел, Емеля?
— Да, ваше сиятельство. Особливо сравнил я две цифры — самую первую с самой последней.
— А коли прочел, так положи листок на место. Но выводы из сей табели весьма поучительны для историков времен грядущих…
Тихо в селе Архангельском, до чего же тихо.
По вечерам из лесу темного набегают волки и, сев на тощие подмороженные зады, воют на огоньки боярской усадьбы. Уютно потрескивают в доме высокие печи, мягко колышется пламя свечей. В узорах сложных оконце. И, оттаяв стекло своим дыханием, старый князь Голицын глядит в ночь…
Страшна ночь на Руси! Сон русского человека в ночь зимнюю — не сравнить со «сном» шекспировским: чудятся Голицыну отрубленные головы предков и головы внуков его. Крадется старик в детские опочивальни. Спят внуки его, крепко спят. Еще ничего не знают!
Кострома — полна ума! И с этой поговоркой никто на Руси не спорит… Вот что случилось в Костроме — от ума великого.
Чиновник Костромской духовной консистории Семен Косогоров (волосом сив, на затылке косица, на лбу бородавка — мета божия) с утра пораньше строчил перышком. Мутно оплывала свеча в лубяном стакане. За окнами светлело. В прихожей, со стороны лестницы входной, копились просители и челобитчики — попы да дьяконы, монахи да псаломщики. Косогоров уже к полудню взяток от них набрался, а день еще не кончился…
— Эй! — позвал. — Кто нуждит за дверьми? Войди следующий.
Вошел священник уездный. В полушубке, ниже которого ряска по полу волоклась, старенькая. Низко кланялся он чиновнику, на стол горшочек с медком ставил, потом гуся предъявил. Косогоров липовый медок на палец брал и с пальца пробовал. Гуся презентованного держал властно, огузок ему прощупывая — жирен ли? И гуся того с горшком под стол себе клал, после чего спрашивал охотно:
— Кою нужду до власти духовной имеешь? И как зовешься?
На что отвечал ему священник так:
— Зовусь я Алексеем, по батюшке Васильевым. Нужды до власти духовной не имею, по смиренности характера, от кляуз подалее. Но прошу тебя, господин ласковый, ссуди ты меня бумагой для чистописания. Совсем плохо в деревне — негде бумажки взять.
— Бумажка, — отвечал ему Косогоров, — ныне в красных сапожках бегает. — И, гуся из-под стола доставая, опять наглядно огузок ему щупал и морщился. — Но… много ль тебе? И на што бумага?
— По нежности душевной, — признался Алексей Васильев, — имею обык такой вирши и песни в народе собирать. Для того и тужусь по бумажке чистенькой, дабы охота моя к тому не ослаблялась. Ибо на память трудно надеяться: с годами песен всех не упомнишь…
Косогоров вдруг обрадовался, говоря Васильеву:
— Друг ты мой! Я и сам до песен разных охоч. Много ль их у тебя собрано? Канты какие новые не ведаешь ли? Священник тут же — по памяти — один кант начертал:
Да здравствует днесь императрикс Анна,
На престол седша увенчан на.
Восприимем с радости полные стаканы,
Восплещем громко и руками,
Заскачем весело ногами,
Мы — верные гражданы…
То-то есть прямая царица!
То-то бодра императрица!
— Чьи вирши столь дивно хороши? — спросил Косогоров.
— Сейчас того не упомнится. С десятых рук сам переписывал…
И священник, довольный бумагой и новою дружбой с человеком нужным, отъехал на приход свой — в провинцию. А консисторский решил почерком затейливым вирши новые в тетрадку перебелить, чтобы потом на манер псалмов их дома распевать — жене в радость… Поскреб он перо об загривок себе, писать набело приспособился, через дверь крикнув просителям, что никого более сей день принимать не станет. Первый стих начал в тетрадке выводить, и перо с разбегу так и спотыкнулось на слове «императрикс».
— Нет ли худа тут? — побледнел Косогоров. — Слово какое-то странное… Может, зложелательство в титле этом?
И — заболел. Думал, на печи лежа, так: «Уж не подослан ли сей Васильев ко мне? Нарочито со словом этим поганым, дабы меня в сомнение привесть? Может, враги-то только и ждут… Может, мне опередить их надобно! Да „слово и дело“ скорей кричать?»
От греха подальше он все песни, какие имел, спалил нещадно. А листок со стихами, где титул царский подозрителен, оставил. Благо, не его рукой писан. Две недели пьянствовал Косогоров, в сомнениях пребывая. Потом на улицы выбежал в горячке и закричал:
— Ведаю за собой «слово и дело» государево! Берите меня…
И взяли. В канцелярии воеводской били его инструментом разным, еще от царя Алексея Михайловича оставшимся. Вспомнил тут Косогоров, что доводчику, по пословице, первый кнут, но было уже поздно… Из-под кнута старинного Косогоров показал:
— До слова «императрикс» причастия не имею. А ведает о том слове священник Алексей Васильев, злодейски на титул умысливший!