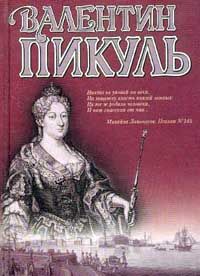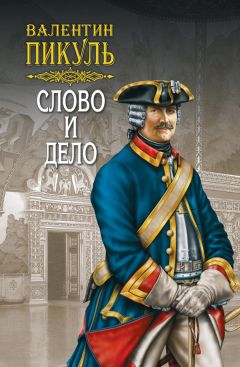— Несомненно, — сказал он, читая доносы академиков, — сам дьявол вселился в Шумахера… Что ж, начнем возрождение науки в России прямо с изгнания бесов!
Примерил он трость к руке своей и решил Шумахера бить. Благо он — командир, а не президент.
— Господин Шумахер, — начал Корф вежливо, — разве можно, чтобы канцелярия Академии взяла верх над самой Академией и наукой?..
Только он размахнулся тростью, как Шумахер завопил:
— «О пленении земель Рязанских от Мамая» — есть ли такое сочинение у вас, барон сиятельный?
— Нету, — заявил Корф, сияя жадными очами. Шумахер прицелился точно: безбожника можно было подкупить только книгами, ибо ничего слаще книг Корф не знал (даже любовниц он не имел, ибо они отнимали время, необходимое для чтения)… Однажды Корфа навестил Карл Бреверн — тоже безбожник и тоже книжник.
— Барон, — сказал он Корфу, — не кажется ли тебе, что Кейзерлинг за свое краткое президентство поступил умно, заметив Тредиаковского? Нельзя в русской науке видеть одних лишь немцев! Так докажи же всем, что именно ты, а не Кейзерлинг был самым умным на Митаве.
— Бреверн, — ответил Корф, — не предвосхищай мои мысли. Именно с такими намерениями я сюда и явился… Встретясь с Делилем, Корф подмигнул ему хитро.
— А Земля-то… круглая, — шепнул он. — И Коперник прав: черт побери ее, но она вращается, а мы еще не падаем на этой карусели. И вы, Делиль, можете беседовать на эту тему со мною. Но другим — ни звука. Только вы и я будем знать о Земли вращении…
С треском вылетела дубовая рама, посыпались стекла. От шутовского павильона ворвался в Академию снаряд фейерверка. Опять загорелись (в какой уж раз!) стены Шафировых палат, набежали солдаты с ведрами и кадеты-малолетки, чтобы спасать науку русскую.
— Убрать «театрум» от Академии! — бушевал Корф в запале. — Кончится все тем, что мы сгорим здесь вместе с Шумахером…
—..ништо им! — хохотала императрица. — А коли сгорят, то и ладно. Никто по ним плакать не станет. От этих ученых одни убытки терплю… Ну вот на синь-пороху нет от них никакой прибыли!
* * *
«…буттобы», — написал Тредиаковский, и крепко задумался: так ли написал? не ошибся ли?
— Будто бы, — произнес вслух, написание проверяя, и хотел далее продолжить, но тут его оторвали…
Вошла княгиня Троекурова, владелица дома на острове Васильевском, и, подбоченясь, поэта спрашивала грозно:
— Ты почто сам с собой по ночам разговариваешь? Или порчу накликать на мой дом хошь? Смотри, я законы знаю.
— Сам с собою говорю, ибо стих требует ясности.
— А ночью зачем дерзко вскрикиваешь?
— От восторга пиитического, княгинюшка.
— Ты эти восторги оставь. Не то быть тебе драну!
— Да за што драть-то меня, господи?
— Велю дворне своей тебя бить и на двор не пускать. Потому как ты мужчина опасный: на службу не ходишь, по ночам бумагами шуршишь, будто крыса худая, и…
Василий Кириллович, губу толстую закусив, смотрел в оконце. А там — белым-бело, трещит мороз чухонский, пух да пушок на деревьях. Завернула на первую линию карета — видать, в Кадетский корпус начальство проехало… Нет, сюда, сюда! Остановились.
— Матушка-княгинюшка, — сказал Тредиаковский, чтобы от бабы глупой отвязаться, — к вашей милости гости какие-то жалуют…
Барон Корф, волоча по ступеням тяжелые лисьи шубы, зубами стянул перчатку, заледеневшую. Посмотрел на княгиню: щеки у ней — яблоками, брови насурмлены, вся она будто из караваев слеплена. И там у ней пышно. И здесь сдобно. А курдюк-то каков… Ах!
— Хотелось бы видеть, — сказал Корф, — знатного од слагателя и почтенного автора переложений с Поля Тальмана.
— Такие здесь не живут, — отвечала княгиня Троекурова. — И по всей первой линии даже похожих на такого не знаю.
— Как же! А поэт Василий Тредиаковский?..
— Он! — сказала Троекурова. — Такой, верно, имеется.
— Не занят ли? Каков? Горяч?
— Горяч — верно: заговариваться уже стал! А вот знатности в нем не видится. Исподнее сам в портомойне у меня стирает, а летом — на речку бегает…
— Мадам, — отвечал Корф учтиво, — великие люди всегда имеют странности. Поэт, по сути дела, это quinta essentia странностей…
Президента с поклонами провожали до дверей поэтического убежища. Тредиаковского барон застал за обедом. Поэт из горшка капусты кисленькой зацепит, голову запрокинет, в рот ему сами падают сочные лохмы…
— Простите, что обеспокоил, — начал любезный Корф (бедности стараясь не замечать, чтобы не оскорбить поэта). — Наслышан я, что от барона Кейзерлинга вы внимание уже имели… Над чем сейчас размышляете творчески?
— Размышляю, сударь, о чистоте языка российского, о новых законах поэтики и размера стихотворного. Наука о красноречии — элоквенция! — суть души моей непраздной…
— Типография в моих руках, — отвечал Корф, — отдам повеление печатать сразу, ибо все это необходимо! Корф в сенях наказал княгине Троекуровой:
— Велите, сударыня, дров отпускать поэту, ибо у него собак можно морозить. Да шуршать и самому с собой разговаривать не мешайте. Ныне его шуршание будет оплачено в триста шестьдесят рублей в год. По рублю в день, княгиня! Он секретарь академический, и меня российскому языку обучать станет…
Корф поэта с собою увез, в Академии Тредиаковский конвенцию о службе подписал. О языка русского очищении. О грамматики написании. О переводах с иноземного. И о прочем! А когда они уехали, дом княгини Троекуровой будто сразу перевернулся.
— Митька! Васька! Степка! — кричала княгиня. — Быстро комнаты мужа покойного освободить. Да перины стели — пышные. Да печи топи — жарче. Половик ему под ноги… Кувшин-рукомой да зеркало то, старенько, ему под рыло самое вешайте… О боженька! Откуда мне знать-то было, что о нем такие знатные особы пекутся?
Барахло поэта быстро в покои жаркие перекидали. Вернется секретарь домой — обалдеет. Княгиня даже запарилась. Но тут — бряк! — колоколец, и заекали сердца русские: ввалился хмельной Ванька Топильский из канцелярии Тайной, сразу кочевряжиться стал:
— Ну, толпа, принимай попа! Ныне я шумен, да умен… Мне, княгинюшка, твой жилец надобен — Василий, сын Кирилла Тредиаковского, что в городе Астрахани священнодействовал.
— Мамынька! Да его только што президент Корф забрал.
— Эва! — сказал кат Топильский (и с комодов что-то в карман себе положил). — С чего бы так? — спросил (и табакерочку с окна утащил). Огляделся: что бы еще свистнуть, и сказал:
— Ныне жилец твой в подозрениях пребывает. И мне ихние превосходительства Ушаковы-генералы велели вызнать: по какому такому праву он титул ея величества писал — «императрикс»?
— Как? Как он титуловал нашу матушку пресветлую?
— «Императрикс»… Ну что, княгиня? Спужалась? Троекурову от страха заколодило. А ну как и ее трепать учнут? Глаза она завела и отвернулась: пущай Топильский крадет что может, только б ее не тронул. Очнулась (Ваньки уж нет), затрепетала:
— Сенька! Мишка! Николашка! Где вы?.. Тащи все обратно в боковушку евонную. Сымай перины, да рукомой убери подале. И капусту, что выкинули на двор, поди снова в горшок ему упихачь обратно! Чтоб он подавился, треклятый! Я давно за ним неладное замечаю. Ныне вот и сказалось в титуле царском!..
Из Академии ехал поэт уже в казенной карете. Только не в академической, а в розыскной, от Ушакова за ним присланной.
— Ты што же это, каналья, — спросил его Ушаков, — титул ея императорского величества обозначил неверно? Мы ее зовем полностью в три слова (ваше императорское величество), а ты, сукин сын, одним словом, будто облаял ее… Императрикс-тыкс — и все тут. Сознавайся, на што титул государыни уронил?
— Каждый стих, — отвечал поэт, — имеет размер особливый, от другого стиха отличный. Слова «ея императорское величество» — это проза презренная. И три слова во едину строку никак не впихиваются. Потому-то и вставил я сюда кратчайшее слово «императрикс», высоты титула не роняя… Размер таков в стихе!
— Размер? — спросил Ушаков, не веря ему. — Чего ты мне плетешь тут? Ты размером не смущайся. Чем длиннее и красочнее титул обозначишь — тем больше славы тебе. А ныне вот, супостат ты окаянный, по милости твоей стихов любители из Костромы взяты. И драны. И пытаны… За то, что слово «императрикс» есть зазорно для ея величества! Какой еще такой размер придумал?
Опять стал рассказывать Тредиаковский «великому инквизитору» о законах стихосложения, о том, что при писании стихов слова не с потолка берутся, а трудом изыскиваются, что такое размер — объяснял, что такое рифма — тоже.
— Рифму знаю, — сказал Ушаков, внимательно все выслушав. — Рифма — это когда все складно получается. А насчет размера… Как бы тебе сказать? Изложи мне все письменно, к делу приложим.