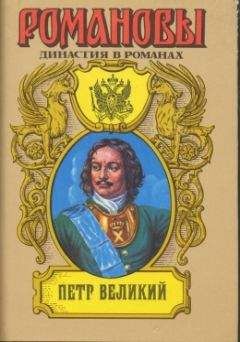Софья молилась, когда к ней ворвался государь.
– Сказывай, ведьма! Сказывай! Слышишь?!
Царевна встала с колен и гадливо отодвинулась от брата.
– Та не ведьма, которая образам святым поклоняется и крестом себя осеняет. Холоп же духа нечистого тот, кто смеет помеху чинить православному во время молитвы.
Не помня себя от бешенства, царь схватил со стола нож и ринулся с ним на сестру.
Рискуя жизнью, Лефорт стал между Петром и царевной:
– Не нюжно, суврен!
Пётр опомнился, и, чтобы снова не потерять рассудка, резко повернул к двери, и выбежал на двор.
Злоба давила его во всю дорогу от Покровского до Преображенского.
Едва вбежав в застенок, он схватил секиру и одним ударом срубил голову Жмелю.
– Вввот тебе, вввыборный полковник!..
Окровавленная секира врезалась в затылок Воскобойникова, потом стремительно перекинулась на Ерша и Проскурякова.
– Вввот… вввот… вввот!..
Восхищённый ловкостью царя, Ромодановский торопливо подал секиры стоявшим в стороне князю Борису Голицыну, Лефорту и Меншикову.
Голицын, белый как убрус, тяпнул дрогнувшей рукой по затылку Тумы. Лезвие секиры скользнуло к плечу, раздробило кость. Тума скребнул зубами половицу, но не проронил ни слова. Второй неверный удар пришёлся по макушке. Стрелец забился в предсмертной агонии. Меншиков снял со стены фузею и, прицелившись, добил колодника.
У дыбы, точно неживой, стоял Пётр. Одной рукой вцепился он в правую щёку, рукав изредка бороздился мелкою рябью.
Тридцатого сентября Москва убралась флагами, венками из бумажных цветов и хвоей.
Из Преображенского, под прикрытием трёх полков, потянулись к Белому городу сотни телег. В каждой телеге сидели по два стрельца с горящей в руках восковой свечой.
Родичи приговорённых стояли у виселиц, окружённые дозорными.
У Покровских ворот по приказу дьяка страшный поезд остановился.
В польском кафтане, верхом на белом коне, из-за переулка показался Пётр. За ним, на такой же масти конях, скакали Лефорт, генерал Карлович[216], Автоном Головин и множество бояр. Позади двигались торговые гости.
Толпа обнажила головы. Иноземные послы и резиденты, снабдив толмачей бумагой и перьями, приказали записать подробно всё, что произойдёт на площади, и с крайним любопытством вытянули шеи.
Царь подал знак.
Низко кланяясь и беспрестанно крестясь, на помост взобрался дьяк. Маслено облизнувшись, он взбил пятернёй ниспадавшую на горб серую бороду и, раздув ноздри, как будто собрался смачно чихнуть, негромко начал:
– «Воры и изменники, и крестопреступники, и бунтовщики, Фёдорова полку Колзакова, Афонасьева полку Чубарова, Иванова полку Чернова, Тихонова полку Гундермарка стрельцы…»
Он прищурился и потянулся пригревшимся на печи котом, откашлялся в детский кулачок и оглушил площадь непостижимым для крохотной горбатой фигурки могучим раскатом баса:
– «Великий государь-царь и великий князь Пётр Алексеевич, всея Великие и Малые и Белые Руси самодержец, указал вам сказать…»
Свечи дрогнули в руках приговорённых, взгляды их невольно потянулись к конным, врезались тупо в почувствовавшего странную неловкость государя.
– «…В прошлом, в двести шестом году, – рокотал бас, – пошли вы без указу великого государя, забунтовав, со службы к Москве всеми четырьмя полками и, сошедшись под Воскресенским монастырём с боярином Алексеем Симеоновичем Шеиным, по ратным людем стреляли, и в том месте вы побраны. А по розыску ваша братия казнены смертию, а вы сосланы были в разные городы, и в том вашем воровстве взяты ваша братья стрельцы четырёх полков, пятидесятники, десятники и рядовые, всего триста сорок один человек, расспрашиваны и пытаны; а в расспросе из пыток все сказали, что было притить к Москве и, на Москве учиня бунт, бояр побить и Немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить, всеми четыре полки ведали и умышляли…»
Дьяк перекрестился. За ним перекрестился весь народ.
– «…И за то, – тоненьким, словно прозрачным голосом закончил дьяк, – за ваше воровство великий государь-царь и великий князь Пётр Алексеевич, всея Великие и Малые и Белые Руси самодержец, указал казнить смертию».
Наступила могильная тишина. Родичи приговорённых пали ниц и так долго, неподвижно лежали. Страшно было поднять голову, ненароком увидеть затянутую петлю на шее родимого человека.
Какая-то стрельчиха, обняв девочку, ползла к переулку.
Девочка упиралась.
– Черно, маменька… Боюсь очи открыть… а черно…
Стрельчиха ползла. Ребёнку чудилось, будто чьи-то ледяные пальцы перебирают его волосы на голове и толкают вниз, в пропасть.
– Мамынька, гляди… свечи горят… Вон она, тятькина свечка…
И вдруг вскочила девочка и бросилась к одной из виселиц, на которой болтался отец её.
Вопль предельного безумия, вселенской скорби, неосознанного и потому ещё невыносимее жуткого возмущения вырвался из детской груди…
Ребёнок ухватился за ноги отца и зашёлся.
– Убрать! Батогом! – зло приказал дьяк.
Один из дозорных склонился к девочке.
Зловещая тишина снова похоронила площадь…
Пять месяцев болтались на столбах трупы повешенных.
Царевну Софью постригли под именем Сусанны и оставили за строгим караулом в Новодевичьем монастыре.
У окна её кельи долго, жуткими виденьями, маячили повешенные стрельцы. Их остекленевшие, выкатившиеся на лоб глаза преследовали Софью днём и ночью. Она всюду видела их перед собой, и они странно влекли её, как влечёт к себе пропасть. Поздними ночами Софья вдруг пробуждалась и крадучись подходила к оконцу. «Они», как верные друзья, как ретивые, злобные острожные дозорные, как собственная тень царевны, как призрак смерти, глядели на неё из мрака ничего не видящими, страшными в слепоте своей стеклянными глазами.
Один, осклабившись и высунув язык, протягивал к оконцу изглоданный дождями, ветром и морозом лоскут бумаги, изображавшей челобитную, по которой полки просили Софью вернуться на управление Русским государством.
Глава 35
МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ
Мазепа твёрдо стоял на своём:
– Усом не поведу… Покуда не придут на Московию шведы, и не подумаю баламутить казаков.
Так, снова ничего не добившись, уехали от гетмана Фома и Оберни-Млын.
Едва переступив порог походного атамана, Памфильев хватил шапкой о пол.
– Тьфу! Вот тебе и весь сказ про Ивана Степановича. Не инако, мудрит он, на уме чегой-то держит от нас. Заладил одно – и ни с места: «Покель-де шведы не препожалуют, никаких бунтов учинять не подумаю».
Оберни-Млын тяжело и длинно выругался.
– Доки шведы заявлються, мабуть, мы и ноги протянемо… хай воны сказються… тее-то, як его… царя москальского… биса скаженного не нашего Бога!
Сказал и, видимо, весьма довольный собой, принялся старательно набивать тютюном самодельную люльку. Ни Памфильеву, ни его ближним споручникам, да и многим из вольницы не терпелось. Им надоело сидеть сложа руки и выжидать каких-либо событий. Вести о том, как господари, расправившись со стрельцами и иными мятежниками, «до остатнего взбесились и глумятся над убогими в три краты лютее лютого мора», вызывали такую страшную ненависть и такую жажду отмщения, что они готовы были ринуться очертя голову против какой угодно вражеский силы.
Булавин глубоко задумался, не знал, как поступить.
– Что же молчишь? – подозрительно оглядел его Фома. – Иль по мысли пришлись гетмановы советы?
Походный атаман остро приподнял плечи и сдавил в кулаке ухо.
– Как в байке: направо пойдёшь – волк задерёт, налево сунешься – в пропасть угодишь…
– А ты на рожон, – убеждённо крикнул Памфильев, – прямо иди на рожон! Прокладывай телом своим мост через пропасть ту! Авось по мосту легче будет убогим идти!
– Ото… тее-то, як его… дило, – любовно поглядел Млын на товарища и, раззявив в широчайшей улыбке рот, выколотил о край стола пепел из люльки.
Булавин неожиданно встрепенулся.
– А ежели мост прокладывать, добро начинать сразу на обоих-двух концах: один конец – Москва, другой – Дон с Украиной.
Завязался едва слышный, но горячий спор.
Млын побежал за Некрасовым, Драным и Голым.
Вскоре все ударили по рукам.
– Добро, енерал! Быть по сему. Мы пойдём на Москву, великий пожар учиним, побьём царя и бояр, а ты украйны поднимешь.
– Одному не управиться, – замахал руками Булавин. – Без Фомы толку не будет. Фома всем ватагам украйным и родитель и брат.
Долго думали станичники, кому идти на Москву. Каждый отстаивал это право для себя. Но победил Млын.
– Та я ж… тее-то, як его… Москву знаю бильш, чим свий оселедец… Та я ж там сродничков маю во всих острогах. Братыки вы мои раскоханые, тай пустыть ж мене…
Поутру ушёл Оберни-Млын на Москву. Ничего не подозревавший Пётр в то же время уехал с Крюйсом в Азов.