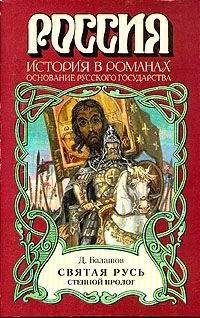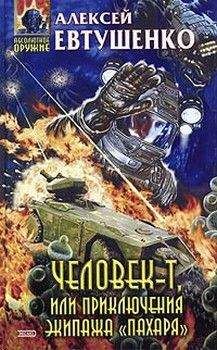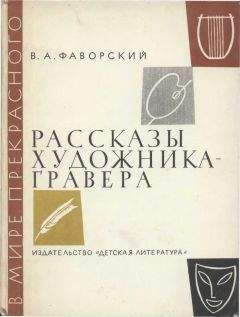Во-первых, это себялюбивое и самолюбивое существо, создавшее тьму концепций величия собственного «я» и личностной исключительности, — человек, есть существо общественное. Как грызуны, как рыбы, человек в толпе становится частью толпы, более того, человек сам стремится в толпу себе подобных и охотно жертвует собственным «я», чтобы только быть со всеми и «как все». Потому и возможны всяческие виды организации человеческих сообществ — от бандитской шайки до государства, от кучки единомышленных философов до вселенских, потрясающих мир религиозных движений. И потому человек дисциплинированный, член религиозного братства или солдат армии, способен на то, на что он не способен сам по себе, в отдельности, вне объединяющего и направляющего его волю коллектива.
Человек к тому же способен заражаться идеей, способен на массовый героизм скорее, чем на героизм индивидуальный, личный. Потому-то и воспевают в эпосах всех народов героев-богатырей за то, что они способны сами, вне направляющей воли толпы, совершать подвиги. Ценит человечество, и очень ценит, особенно на расстоянии лет и пространств, подвиг отдельной личности, хотя именно личностью мало кто способен быть из обычных рядовых людей. И мужество, скажем, крестьянина, ставшего ратником, покоится на том же ощущении причастности к целому («я — как все, я — как мир»), на коем зиждется вся традиционная культура и жизнь народов земли. Это первое.
Второе, что никакого «народа вообще» нет. Есть люди. В обычной ватаге плотников, скажем, есть старшой, мастер, человек упорного и угрюмого нрава, какой-нибудь Никанор Иваныч; есть весело-озорной любитель выпивки и гульбы Васька Шип, который вечно подшучивает над старшим, но сам по себе не мог бы и работать иначе, чем в ватаге; есть старательный и тихий Лунек, которому надобно указать «от» и «до», и он сделает, но сделает лишь, ежели ему укажут; есть Федька Звяк, дракун и задира, вечно лезущий в ссоры, с каждого праздника — в синяках и ссадинах, готовый громче всех орать, лезть на стену, бежать по зову вечевого колокола, который и работать умеет, ежели не дрожат руки с попойки, но все с рыву, с маху, все — не доводя до конца, у него крыльцо без перил, у него протекает крыша и жена замучилась, упрашивая буйного супруга починить ей ткацкий стан, — на такие мелочи ему вечно недосуг; есть и Саня Костырь в той артели, редкий и старательный мастер, у которого дома облизана кажная вещь, у коего инструмент наточен так, что волос на лету разрежет, который срубит любой самый хитрый угол, славно косит, чеботарит, плетет из лыка и корня, ко всякому рукоделью мастак, ну и выпить не дурак, в дружине коли, коли со всеми… И только когда прихлынет какая великая беда, тихо отойдет посторонь, не умеет лезть в драку, ни подвиги совершать, не защитит тебя в ратной беде грудью, не выступит на суде, но раненого вытащит, перевяжет и будет спасать, как может; и противу боярина, боярского тиуна ли не попрет, а поноровит как-нито обходом, лаской, приносом, лишь бы не тронули его… А Пеша Сухой, тот прижимист и скуп, у такого среди зимы снегу не выпросишь, у него все свое, он трясется над каждою мелочью, жадно пересчитывает доставшееся ему по жребию и поскорее увязывает в тряпицу кусочки заработанного серебра. (Он и жене не верит, поделавши дома тайник ради всякого злого случая!) На бою с таким лучше не иметь дела, бросит, а то и не бросит, вытащит, тотчас присвоив дорогой нож или еще какую ратную справу, себя самого успокаивая тем, что раненому сотоварищу это теперь «без надобности»… А еще Алешка, молодой парень, сильный, но робкий духом, услужающий каждому в ватаге, у которого дома больная старуха матерь и младшие брат с сестренкой (батька убит на бою), и то, что он получит за труд и что не отберет у него Пеша Сухой или не выцыганит на пропой души Васька Шип, он тотчас тащит домой, матери, а сам так и ходит в единственной драной рубахе… Да и всю бы мзду отбирали у него, кабы не старшой, Никанор Иваныч, что нет-нет да и прикрикнет на ухватистых ватажников… И вот они выходят, все семеро, — не разорвешь! Ватага!
Готовые постоять друг за друга, в драке потешной становящиеся стенкою, в работе — без слов понимающие один другого. Народ! Как бы не так… Не будь Никанора Иваныча, Васька Шип унырнет в дикую гульбу, Лунек «слиняет», пойдет искать себе иного хозяина, Федька Звяк пропадет в очередной драке или кинется с новогородскими ушкуйниками грабить низовские города. Саня Костырь уйдет к боярину, что и даве зазывал мастера к себе; Пеша Сухой учнет ладить свою артель, да не получится у него никоторого ладу, больно уж прижимист и больно скуп! Алешка, и тот откачнет от него в скором времени и устроится куда на боярский двор конюхом али скотником… И — нет ватаги! И едва кивнут когда, встретя один другого…
Повторим: есть люди. И те, у кого и в ком жива та самая энергия действования, кто способен к деянию, те подчиняют себе других и ведут за собою, и, ежели их много, они-то и придают народу, всем прочим, его лицо.
А ежели этих людей поменело? Изничтожились, погибли в войнах и одолениях на враги? Тогда и народ уж не тот, иной, и к иному способен, а то и ни к чему уже не способен, разве разойтись да искать себе у чужих народов новых вождей, новых носителей вечно творящей, вечно толкающей к деянию энергии, которой только и существуют, и держатся люди, помощью которой и создается все сущее на земле.
Ратники, вернувшиеся с Куликова поля, жали хлеб. Бояре тоже были в разгоне, по деревням. Наличная воинская сила, почитай вся, брошена к западному литовскому рубежу. Тем паче Акинфичи, захватившие власть при государе, растеснили, отпихнули многих и многих, надобных для обороны Москвы людей. Не было Вельяминовых, не было Дмитрия Михалыча Боброка, что весною отбыл на литовский рубеж, а сейчас лежал больной в дальнем имении своем, почти не имея вестей о том, что творится на Москве.
Ратники были в полях. В Москве оставался ремесленный люд, те нестойкие вои, что дернули в бег в битве на Дону, да многочисленная боярская дворня, которая, на рати ежели, то только в обозе да «подай и принеси». В дело, в сечу, таких и не берут никогда. Дворня, оставшая без господ, разъехавшихся по поместьям… А Федор Свибл, коему князь Дмитрий поручал город, удрал вослед за князем в Переяславль и далее. А митрополит, духовная власть, уехал тоже. И в городе, лишенном воевод, началось то, что предки наши называли емким и образным словом — замятня.
Кто рвался в город из пригородов, спасая добро, кто рвался наружу — отсидеться за синими лесами… Самозванные ватаги кое-как оборуженных мужиков захватили ворота, взимая дикую виру со всех, чаящих выбраться из города… Да уж ежели ограбили самого митрополита и великую княгиню, можно понять, что сотворилось во граде!
Созвонили вечевой сход. И с веча, с Ивановской площади, кинулись разбивать бертьяницы и погреба, искали оружия (а нашли, как оказалось впоследствии, первым делом хмельное питие). Самозванная власть усилила заставы у всех ворот градных. С визгом, руганью, криком и кровью — обнаженное железо требовало примененья себе — забивали в город, в осаду, рвавшихся вон из города. И какая уж тут братня любовь! Ненависть (повелевать, заставить!) объяла едва не каждого. Граждане, лишенные своего гражданского началования, стали толпой. Кто спрашивал, кем и куда износились отобранные у отъезжающих порты и узорочье? Кто и кому раздавал оружие? Почему явилось вдруг столько пьяных? Что за задавленный женский визг слышался там и тут? Из чьих ушей вырывали серьги, кого насиловали в подворотне, с кого сдирали дорогой зипун или бобровую шапку?
Осатанелая толпа перла теперь к Соборной площади, к теремам. Остатки совести не позволяли взять приступом княжеские палаты, но уже ворвались в молодечную, расхватывая сабли, брони и сулицы, невзирая на истошный вой прислуги, лезли к хозяйственным погребам…
Какие-то, в оружии, самозванные вои пытались навести хоть какой порядок. Колокола всех церквей яростно вызванивали набат. Засевший в приказах вечевой совет под водительством Фомы, оружейного мастера, троих купцов-сурожан — Михайлы Саларева, Онтипы и Тимофея Весякова да двоих градоделей, Степана Вихря и Онтона Большого, с десятком перепуганных городовых боярчат старались изо всех сил наладить оборону города. Купцы, хоть двое из них и были на Куликовом поле, мало что могли содеять. Фома, тот вооружил своих мастеров с подручными, потребовав того же от городовых дворян. Воинская сила все же нашлась, и после нескольких безобразных сшибок совет сумел перенять городские ворота и все спуски к Москве-реке.
Но пока толковали и спорили, зажигать ли посады, первые татарские разъезды уже появились под Кремником, что вызвало дополнительный пополох.
В этот-то миг городу пробрезжило спасение. С напольной стороны, из-за брошенного Богоявленского монастыря, вымчала вдруг негустая кучка ратных и устремилась прямь к Фроловским воротам. Фома, стоя на стрельницах, сообразил первый: