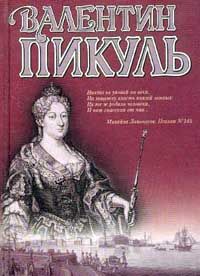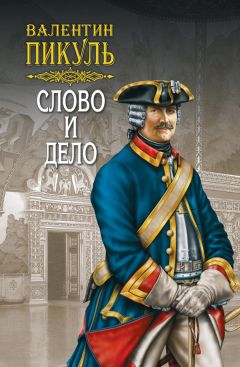Пришлось поэту писать подробное изъяснение:
«Первый самый стих песени, в котором положено слово „императрикс“, есть пентаметр. Слово сие есть самое подлинное латинское и значит точно во всей своей высокости „императрица“… Употребил я сие латинское слово для того, что мера стиха того требовала…»
Ушаков песочком изъяснение поэта присыпал.
— Ой, мудрено же пишешь, — удивился. — Ты проще будь, а не то мы тебя со свету сживем…
Пешком отправился поэт домой — на первую линию. Пуржило, колко секло лицо. Спиною к ветру оборотясь, шел Василий Кириллович, и было ему так горько, так обидно… хоть плачь! Он ли грамматики не составитель? Он ли од не слагатель? «Так что ж вы, люди, меня, будто собаку бездомную, рвете? Тому не так, этому не эдак. И любая гнида глупая учит, как мне писать надо…»
— Кого учите? — спросил поэт у ночной тишины. Переходя Неву по льду, остановился над прорубью. Черный омут, страшный-престрашный, а в нем — звезд отраженье и небо.
Внемли, о небо! — Изреку,
Земля да слышит уст глаголы:
Как дождь, я словом протеку,
И снидут, как роса к цветку,
Мои вещания на долы…
Старики были мятые. Ветераны каторги. Их шихтой заваливало, их деревьями мяло, их в драках пьяных били друзья, и просто так — начальство секло. Теперь они тачку не возили. Прощай, дело рудное! Вокруг Екатеринбурга — вышки сторожевые. Вот они и торчали на вышках, сивобородые, недреманные. И тугоухо слушали вой лесной чащобы: не идет ли башкир с луком? И руки стариков караульщиков сжимали веревки колоколов…
Екатеринбург! Места гиблые. Когда пришли сюда, здесь туман плавал едучий. Лес брали штурмом, как берут шанцы крепостей. Трясло летом от дождей, пожирал людей гнус, а зимами стонала солдатская кость от лютости морозов. Не стерпели! Бросили все к бесу и ушли прочь. Остался в диком лесу один генерал де Геннин, мерз у костерка; обложился пистолями — от зверя и башкира. Нагнали тогда армию, секли беглецов и вешали, вернули из-под самого Тобольска обратно на Урал, чтобы Екатеринбург они достроили…
А теперь — глянь! — кабаки торгуют вином, сидят там люди добрые, мастера дела рудного, искатели, и меж собою судачат:
— Перво дело — дух. А дух тамотко е! Вышел я на речку и знак приметил. В лесу ямы издавна копаны. Не иначе, чудь белоглазая[25] уже работала там во времена прошлые.
На доски стола кабацкого из котомок бродяжьих падали куски — в блеске, в искрах, в жилах. И сдвигались над ними лохматые головы:
— Изгарь… медь… малахит… Золото!
— Цыц! Дух от верной был, от земли так и прядало… А вокруг — ночь и лес. Но здесь, в городе, людям уже все обыкло. И человек здесь — хозяин. Вокруг прудов-копанцев — фабрики и заводы. Шлепают в ночи водяные колеса, ухают молоты и мехи дышат. Под вальцами катится раскаленный пласт, облитый уксусом. Шипуче, горячо, смрадно… Выскочит из цеха горновой. Черной дыркой беззубого рта хватанет студеного воздуха, и — обратно.
— Засыпка! — кричит весело, и сыплется в печь руда. Говорят здесь непонятные слова — шмельцер, фар-флауер, роштейн, — слова немецкие, пришлые. И тяжелонос Ванька Вырви Яйцо (сам из беглых), что сейчас тачку в шесть пудов катит, — зовется здесь «ауфтрайгер». А Николка Сисюк, ученик сопливый, — «грубенюнг»…
Грохот цехов не может победить тишины леса — жуткой и странной. Вглядываются в туман сторожа с вышек. Старые, они по ночам хлеб едят. Где зубом кусят, где десной отломят. Были когда-то и они молодыми: девкам проходу не давали, со штыком на шведа под Полтавой ходили, лес трещал, поваленный ими, медведей из берлог рогатиной поднимали. А теперь им одно осталось: «Слуша-а-ай!» на черный лес покрикивать.
Такова печальная цепь жизни человеческой… Чу! Брызнуло из-за леса огнями… факелы… шум… ржанье коней… Уж не башкиры ли? Нет, это катит на Екатеринбург новый начальник заводов, его высокопревосходительство Василь Никитич Татищев. Старики его хорошо помнят: он уже бывал в Сибири (тогда-то они и зубов при нем лишились). Однако не все бил — детишек отнимал и учил. «Хрен с ым, — думает страж, — дело господское!»
А на горе — дом с колоннами деревянными, и в окнах свет желтый, свечной — не лучинный. Там начальство высокое: генерал де Геннин дружески принимает Татищева, потчует Никитича домашними разносолами, по-русски говорит чисто:
— От тептерей и вогуличей подмоги тебе сыскать мочно. Ямы чудские, где во времена незапамятные руду добывали, они еще ведают. И греха таить нечего: мастеры немецкие при мне, стыдно сказать, ничего не нашли. А русский мужик — упрям и смел: он в черный лес идет с лозой, в рудах толк знает. Ты, Никитич, на них и уповай божией милостию. Беглых не обидь: потомству от сих беглых во времена будущие надлежит Сибирь поднять и освоить. А я уеду. Устал и состарился…
Де Геннин отбыл. Татищев взял круто: созвал горных промышленников и совет с ними держал, чтобы «Устав горный» коллегиально обсудить. Враг порчи языка русского, Василий Никитич упрямо Екатеринбург называл по-русски — Катеринском. «Сибирский Обер-Берг-Ампт» велел именовать «Канцелярией главного правления заводов сибирских». Чтобы рвение к службе в горнознатцах возбудить, Татищев чины горные к офицерским приравнял. Но и чуден он бывал иногда… С ревизией на Егошихинский медный завод приехал, чиновников собрал, на столе перед ними шахматы расставил.
— Умерли, — возвестил, — великие рыцари турниров шахматных: поп Иван Битка да Степан Вытащи! Более их не стало… Игра же сия — не карты сдуру шлепать. И не кости кидать — кому как выпадет. Тут разум побеждает, а ум изворотлив делается. Потому и наказываю: всем чинам горным каждодневно в шахматы сражаться, дабы в лени и пьянстве душами не закостенеть…
Скоро на Урале не стало от шахмат спасения. В кабаках, бывало, пьяный на пьяном лежит. А теперь все играют. Мальчишки из сучков уже не свистульки, а фигуры шахматные режут. По цехам, между засылками, в часы обеденные, всюду видишь одно: доски расчерчены, короли да слоны движутся, свисают над досками головы патлатые. Бьются насмерть два рыцаря в турнире благородном: ауфтрайгер Ванька Вырви Яйцо с грубенюнгом Николкой Сисюком… А вокруг горят костры одичалые — текут по лесам люди беглые, гулящие да воровские. Иной раз заскакивали в города наездом тептери, вогулы да башкирцы мирные. Татищев велел таких наезжих хватать и крестить силком. Новокрещенам по пятачку давал. И сам в крестных отцах хаживал. Звериными тропами с дальних выселок и промыслов рудных везли солдаты в Екатеринбург детей Бежали следом, волосы распустив, лица царапая, неутешные матери и бабки:
— Дитеночка мово отдайте! На што яму школа ваша? Ен ишо несмышленыш. Ой, горе мне, сирой! Ой, лишенько-то накатило…
В школах горных забивали детей насмерть. А кто выживет — тому в мастерах хаживать. Может и в чины офицерские выйти. Татищев охрип от криков, от ругни. От писания бумаг казенных перо натерло мозоль на пальце. «Народ к ученью палкой приучать, коли охотно того не желает!..» Далеко от Екатеринбурга уходили рудознатцы: иные возвращались с полными торбами образцов горных, а от иных и костей не сыщешь — навсегда пропадали, и леса молча смыкались за ними… навсегда, навсегда! Горы Рифейские — Пояс Каменный: Татищев их Уралом стал называть; заметил он, что звери и природа различны к востоку и к западу от Урала… «Вот, — решил он, — это, должно быть, и есть граница меж Европой и Азией».
Забрел как-то на огонек Бурцев, испросил чарочки.
— Согреши, Тимофей Матвеич, — отозвался Татищев охотно. — Да говори, каково в Нерчинске жилось тебе? Не обижал ли тебя губернатор иркутский Жолобов, за зверя лютого известный?
Бурцев пропустил через желтые зубы вино:
— Не! Жолобов меня не обижал. А вот от Егорки Столетова поношения я принимал по милости того самого Жолобова…
И рассказал: губернатор ссыльного пииту в рудник на Аргунь не гонит, кафтан ему подарил и шапку на пропитие кабацкое. И тот куролесит по Нерчинску с голытьбой катовской, шапкой Жолобова всюду хвастая…
— В церковь Егорку, — перекрестился Бурцев, — ведь не загнать. До того в безбожество уклонился, что в день тезоименитства ея величества… ну — никак! Хоть на аркане в храм его волоки!
— Не идет? — спросил Татищев, хитря.
— Уперся. Што мне короли да цари, говорит. Я, мол, и сам велик по дарованиям моим. А Жолобов, — бесхитростно поведал Бурцев, — тот иная статья: бабы, сказывал, городами не володеют. И от таких слов евонных, Василь Никитич, — печалился старый сибиряк, — я в большом тужении пребываю. Потому как Анна Иоанновна… тоже ведь баба!
— Эх, Матвеич, Матвеич, — понурился Татищев, — дурная башка твоя! Зачем ты мне «слово» сказал? Ведь я начальник здесь, и за мною — «дело». Могу ли умолчать, коли тобою донос сделан?