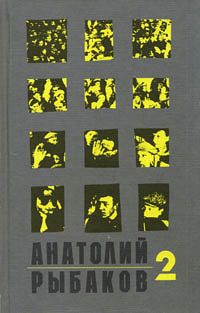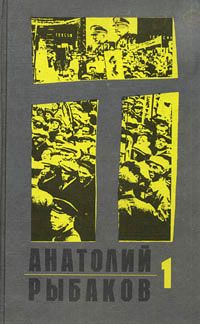Ознакомительная версия.
– Знаете, – сказал он наконец, – когда я уезжаю за границу, в особенности уезжаю надолго, то скучаю именно по этим просторам, жду часа, когда сяду в вагон и буду так же вот, как сейчас, смотреть в окно.
Обернулся к Шароку:
– Наливайте себе. Ликер вкусный.
– Спасибо.
– Кто верховодит в этой паре? – снова начал Шпигельглас. – На сей счет есть разные мнения. Говорят – она женщина властная. Фермера в эмиграции даже называют «генерал Плевицкий». Но для нас, для нашей нынешней задачи, сейчас важен он, Фермер, и только он. – Голос Шпигельгласа стал твердым. – Вам, конечно, известно об аресте комдива Шмидта, комкоров Путны и Примакова?
– Да, разумеется.
– Вы, наверное, помните нечеткие ответы Радека на вопрос о его связях с маршалом Тухачевским?
– Да, я заметил. Он делал это слишком горячо и настойчиво, а потому и неубедительно. – Шарок уже догадывался, к чему клонится дело.
– У Центрального Комитета партии, у товарища Сталина есть неопровержимые данные о том, что маршал Тухачевский, армейский комиссар 1-го ранга Гамарник, командармы 1-го ранга Якир и Уборевич, командарм 2-го ранга Корк, комкоры Примаков, Путна, Эйдеман и Фельдман связаны с командованием германского рейхсвера, ведут шпионскую работу в его пользу, готовят военный переворот, намерены убить товарища Сталина и других руководителей партии и правительства.
Шарок не удивился этому сообщению. Проработав три года в НКВД, он привык ничему не удивляться. При подготовке одного из процессов собирали материал даже на Молотова. Врагов народа, шпионов и убийц называет товарищ Сталин, дело работников НКВД доказать их вину. Теперь врагами народа назначены военные руководители.
– Фермер должен достать в Берлине материалы, уличающие указанных лиц. Эти материалы он передаст вам в руки.
И, помолчав, добавил:
– За это Фермеру обещана помощь в дальнейшем продвижении по службе.
«По службе» – это означало в РОВС.
– Задача понятна, – кивнул Шарок.
Надо брать себя в руки. Нехорошо так долго не навещать Софью Александровну, бросить ее – бесчеловечно, недостойно, жестоко. И винить бесполезно: ничего уже не исправишь. Наверняка она тоже мучается, казнится из-за того, что рассказала Саше о Косте. Узнай Варя, что Саша был женат, ну и что, было да сплыло. Но Саша отнесся ко всему иначе. Если любил ее, не может простить предательства, известие о Косте оглушило его. А если не любил, то при его собственных мытарствах слушать про муженька-шулера, вникать в эту уголовщину – неинтересно, противно, потому и отверг ее предложение приехать к нему. Такой вариант Варя не исключала.
– А вот и я, – начала она прямо с порога, – работу закончила, к вам явилась.
– Варюшенька, милая, – встрепенулась Софья Александровна, искренняя радость прозвучала в ее голосе.
– Расскажите, как вы живете?
– Скриплю, Варенька, потихоньку. Ты со службы?
– Да, а что?
– Хотела предложить тебе тарелку грибного супа.
– Не откажусь.
Первая встреча после десятидневного перерыва прошла нормально. О Саше Софья Александровна не говорила, не хотела бередить рану.
– Завтра придешь?
– Обязательно.
Михаила Юрьевича Варя давно не видела, не заставала дома. Даже пошутила как-то: «Может, у нашего Михаила Юрьевича роман?»
– Тем более что приходит иногда под утро, – улыбнулась Софья Александровна, – мы даже дверь не берем на цепочку. Но разочарую тебя: это связано с работой, с переписью населения.
Правильно, у нее совсем из головы вылетело, что в январе провели всесоюзную перепись населения.
Наконец Варя встретила его в коридоре, сказала, что соскучилась, спросила:
– Ну что, Михаил Юрьевич, всех переписали, никого не забыли?
– Всех, Варенька, всех, – вид у него был измученный, озабоченный, – всех, кто есть. А вот кого нет, тех, конечно, не переписали.
Странная фраза.
– Зайдем ко мне, попьем чайку, – предложил Михаил Юрьевич.
– С удовольствием.
Как всегда, она забралась с ногами в продавленное кресло.
– Ко мне тоже приходили, – сообщила Варя, – потеха. Спросили, верю ли я в Бога. «Да, – отвечаю, – верю». Счетчик на меня вылупился, молодой парень: «Вы серьезно?» «Да, – отвечаю, – совершенно серьезно. А вы разве не верите?» «Я – нет, не верю». – «А ваша мама?» Он ничего не сказал, насупился. Видно, я ему итог переписи подпортила, они бы хотели всех видеть неверующими, чтобы последние церкви разрушить.
– Глупый вопрос, – подтвердил Михаил Юрьевич, – никогда в переписи не включался.
– Люди боятся говорить правду, – продолжала Варя, – и заявляют, что они неверующие. Ведь сейчас сказать: «Да, верю в Бога» – это для обыкновенного человека подвиг. Я не совершила подвиг, я просто дурака валяла. Но если в семье члена партии или комсомольца есть верующие, то этому партийцу или комсомольцу не поздоровится: почему плохо воспитываешь членов своей семьи? И самому верующему, если он где-нибудь работает, не поздоровится, из ударников выгонят, из стахановцев, премии лишат, наклеят ярлык: «церковник» или «пособник церковников и мракобесов».
– Да, – повторил Михаил Юрьевич, – этот пункт не следовало включать. Первая перепись после революции была в 1920 году. И когда Ленин увидел в опросном листе вопрос о вероисповедании, он велел его исключить, понимал неправомерность такого вопроса. В нынешней переписи вообще много нелепостей, Варенька. Перепись намечалась сначала на конец 1936 года, хотели провести ее спокойно, за пять—семь дней, но потом все вдруг изменилось, перенесли на январь 1937 года и велели провести за один день, представляете, сколько счетчиков понадобилось? Больше миллиона. Разве мыслимо в один день обойти всю страну, в городах это невозможно, о деревне и говорить нечего. А вот приказали, и выполняй!
– Но зачем, Михаил Юрьевич, зачем?
Он переставил на столе флакончики с тушью.
– В прошлый раз я вам рассказывал. Перепись должна дать цифру населения порядка 170 миллионов человек, в этом уверено правительство, а я ожидаю максимум 164 миллиона – в лучшем случае. И встает вопрос: куда делись шесть миллионов человек? И ответ у правительства будет такой: перепись произведена вредительски, и те, кто ее производил, – вредители.
У него задрожал голос.
Только теперь до Вари дошло: чтобы скрыть правду от народа, и приказали переписать всех в один день, а потом свалят на статистиков. Сволочи! Поэтому Михаил Юрьевич так и разнервничался.
– Михаил Юрьевич, успокойтесь, не волнуйтесь! Прошу вас.
– Я не волнуюсь. Но скрывать ничего не буду. Шесть миллионов, подумать только! Кто эти люди? Простые крестьяне. В чем виноваты? За что погибли? Ни в чем не виноваты, ни за что погибли. Утаивать это безнравственно. Так что, Варенька, я не волнуюсь. Людей жалко. Всех жалко, и тех, кто погиб, и тех, кто считал и будет за это отвечать, и нас с вами, Варенька, тоже жалко, – он устало улыбнулся, – впрочем, зря мы с вами об этом говорим. Вы, Варенька, слишком серьезны для своих лет. Почему вы не ходите в театры, музеи, сейчас такие интересные выставки.
– А вы ходите? – спросила Варя.
– Ну, я старый человек… Вы были на Пушкинской выставке?
– Была, конечно.
– Ну и как?
– Мне не понравилось. У самого входа висит картина… Наталья Николаевна, знаете, высокая, с голой спиной, величественная, лица не видно, только спина, и рядом с ней Пушкин, на полторы головы ниже, оглядывается назад – уродец с толстыми губами и перекошенным от злобы и ревности лицом. Она такая победительная, а он – маленький, неприятный, путается у нее в ногах. Ощущение такое, что все вокруг смеются над ним, издеваются, а он готов на всех броситься, убить, удушить. Какая-то злобная мартышка, а не Пушкин. Разве можно так?
– Вы категоричная девушка, – мягко возразил Михаил Юрьевич. – Я знаю эту картину. И очень высоко ценю Николая Павловича Ульянова. Острый рисовальщик, мастер психологического портрета. Много работал над Пушкиным. И в оценке картины, я думаю, Варя, вы не правы, хотя к картине и можно предъявить претензии. И лицо Натальи Николаевны, кстати, видно, оно ведь отражается в зеркале.
– Ах да, правда, я забыла, – смутилась Варя, – но в глаза бросается величественная и равнодушная ко всему спина.
– Как же вы не обратили внимания, ведь картина называется «А.С. Пушкин и Н. Н. Пушкина на придворном балу». Ульянов их написал как бы на повороте лестницы, он как раз нашел интересный ракурс. Что касается Пушкина… У Ульянова резкий угловой штрих – он и передает нервозность Пушкина. Но эту картину он писал в двадцать седьмом году, я видел первые рисунки, там Пушкин был такой же, но проще, не в мундире, и производил другое впечатление. Не было всего антуража, великолепия императорского двора. Тот вариант вам, вероятно, пришелся бы больше по душе. Кроме того, на выставке было еще много интересного. Но я уже сказал, вы слишком серьезны, Варя, вам сколько лет?
Ознакомительная версия.