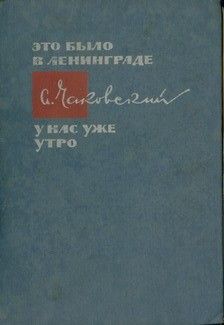И я принялся за работу над статьёй. Положил в её основу переписку ленинградцев с москвичами в первые месяцы войны. В течение нескольких часов я в редакции газеты «На страже Родины» читал и перечитывал письма трудящихся Выборгской стороны Ленинграда к трудящимся Москвы, ответ москвичей выборжцам, письмо рабочих Нарвской заставы московским рабочим, письмо коллектива завода «Большевик» — тоже москвичам, и обращение рабочих завода имени Ленина к героическим защитникам Ростова…
«…Дорогие товарищи! Друзья наши, москвичи! — читал я. — В тревожный час, когда над Красной Москвой нависла грозная опасность, мы всем своим сердцем, всеми помыслами и устремлениями своими с вами, защитники советской столицы.
Москва! Это слово с нежной любовью произносит каждый советский человек — русский и украинец, узбек и белорус, казах и грузин. Москва — мозг и сердце нашей родины. Отсюда по всем необъятным просторам нашей страны излучается свет новой жизни…»
Я читал и перечитывал эти строки, то пламенные и призывные, то гневные и горькие, и казалось, что они написаны кровью сердца.
Потом я начал писать. Это была статья о великом единстве нашего народа.
Отправив статью, я почувствовал радость от сознания исполненного долга. Но только на несколько часов. А потом меня снова стала мучить мысль, что я не написал и сотой доли того, что должен был написать.
Я помнил, что десятки тысяч бойцов Волховского фронта, задача которых — прорвать блокаду Ленинграда, могли узнать о положении в городе только из фронтовой газеты. А ленинградским корреспондентом этой газеты был я. Мне казалось, что мало суток, чтобы выполнить всё, что требовалось.
Но когда, потрясённый всем виденным за день, измученный большими переходами, я возвращался домой, я снова думал о Лиде. Я чувствовал, что ещё не сделал решающих шагов, чтобы отыскать её.
Что оставалось мне делать?
В моих руках была только одна соломинка: последний записанный в моём блокноте адрес. Если и там неудача — значит, концы обрублены, следы потеряны и, приехав в Ленинград, я оказался к Лиде не ближе, чем там, на Волховском фронте.
Я не мог решиться сразу пойти по этому адресу. Там жила Ирина Вахрушева, подруга Лиды.
Я знал эту девушку. Мы иногда проводили вечера втроём, во время моих приездов в Ленинград. Я не особенно симпатизировал Ирине. Она казалась мне слишком шумной, слишком смешливой, недаром Лида звала её «море по колено». Но Лида любила её, и я шёл на уступки. У меня был адрес хозяйки, у которой Ирина снимала комнату.
В этом адресе была для меня последняя надежда.
Я старался подготовить себя к неудаче. Когда я очутился перед большим серым зданием и увидел номер дома, который отыскивал, мне стало страшно. Я не знал, что найду за этими стенами: замок, сургучную печать или мёртвых людей.
Несколько раз прошёлся возле дома, не решаясь войти. Потом я взял себя в руки и, будто ныряя в холодную воду, бегом поднялся по лестнице. На втором этаже я постучал. Было тихо. Я постучал ещё раз, сильнее. За дверью послышались медленные шаркающие шаги, шум отодвигаемого засова, и дверь открылась. Передо мной стояла женщина лет пятидесяти, в шубе и в платке, накинутом на седые волосы.
— Мне нужно кого-нибудь из Вороновых.
— Я Воронова, — тихо ответила женщина.
— Вы Воронова? — переспросил я, чтобы собраться с мыслями.
Подошёл к ней ближе и сказал, что хочу поговорить. Она пригласила меня в комнату.
Я вошёл и остановился на пороге. Я почувствовал, что у меня дрожат колени. Я ничего не видел — ни комнаты, ни мебели, ни самой Вороновой, ничего, кроме большого портрета, висящего против двери над письменным столом.
Это был портрет Лиды. Она стояла, смеющаяся, откинув голову, в пёстром платье, облокотившись на железную решётку сада. Стояла такой, какой я её знал и помнил.
— Я вас слушаю, — проговорила Воронова.
Я вздрогнул и опустил глаза. Не мог больше выдержать и прямо спросил, показывая на портрет:
— Где сейчас эта девушка?
— Не знаю точно, — сказала Воронова. — Это подруга моей жилицы.
— Ирины Григорьевны? — снова спросил я.
— Да, — ответила Воронова. — А вы разве её знаете?
— Где Ирина Григорьевна? — повторил я вопрос.
— Она живёт на заводе. Там работает и живёт.
— Где же этот завод?
— Послушайте, товарищ военный, — сказала Воронова, — объясните же, что вы хотите.
Я подошёл почти вплотную к ней, показывая на портрет:
— Я разыскиваю эту женщину. Это мой близкий друг. Я написал ей сто писем и сейчас ищу её по всему городу. Когда-то она дала мне адрес Ирины Григорьевны, как своей лучшей подруги. Вот и всё. А теперь скажите скорее: где этот завод?
Воронова внимательно посмотрела на меня.
— Я понимаю, — тихо произнесла она. — Лидуша у нас часто бывала. Они с Ириной большие друзья. Давно, правда, не заходила она к нам. А только адрес завода я не знаю… Мы лучше вот как сделаем. Завтра Ирина придёт домой. Тут я ей постирала кое-что. Часов в пять обещала. Вот вы в это время и приходите.
— Хорошо, — сказал я, — спасибо. Приду.
Но я не уходил. Стоял и смотрел на портрет, и туман застилал мои глаза. Потом я опустил голову и понял, что надо уходить.
— Завтра в пять, — напомнил я и поспешно вышел из комнаты.
…На другой день я подошёл к дому в половине пятого. Уже стемнело, но дом, серый, гранитный, показался мне светлым и радостным. Я быстро взбежал по лестнице и постучал.
Мне опять открыла Воронова.
— Не повезло вам, — проговорила она, идя в комнату. — Уехала Ирина-то моя. На оборонные работы уехала… Только и успела записку прислать…
— Где эти работы? — спросил я.
— Да разве ж я знаю?! — воскликнула Воронова. — Теперь всюду работы. Через неделю, пишет, вернётся.
— Хорошо, — сказал я, не узнавая своего голоса, — я зайду через неделю.
Ночью мне позвонили из редакции «Ленинградской правды». Знакомый товарищ сообщил, что через два часа председатель исполкома Ленсовета Попков будет беседовать с корреспондентами газет. Через пятнадцать минут я уже шагал, утопая в сугробах, к Смольному.
По бесконечным, едва освещённым, холодным коридорам Смольного я добрался наконец до кабинета Попкова.
В центре небольшой комнаты за огромным низким столом, покрытым зелёным сукном, сидел Попков. У него было усталое, но свежевыбритое лицо, красные веки и синяки под глазами. Он показал нам на кресла и сказал хриплым голосом, без всяких предисловий:
— Мы пятый месяц в блокаде. Огромными усилиями мы растянули оставшиеся у нас запасы на эти пять месяцев. Завоз продуктов был связан с исключительными трудностями. Вы знаете об этом. Теперь, в связи с разгромом немцев под Тихвином, есть основания думать, что доставка продуктов облегчится…
Попков говорил монотонно и медленно, и казалось, что каждое слово стоит ему усилий. Он сказал, что сейчас главная задача — доставить в город продукты, скопившиеся на той стороне Ладоги, и организовать борьбу с ворами и мародёрами. Потом зазвонил один из многих телефонов на маленьком столике. Попков взял трубку, сказал «иду» и встал.
— Меня вызывают, товарищи, — сказал он. — Вы получите печатное изложение того, что я хотел сказать. — Он пожал нам руки и вышел из кабинета.
Секретарша раздала нам печатные листки.
Я возвращался из Смольного глубокой ночью. В небе горело бледное зарево, и на снегу плясали красноватые тени. Я шёл по направлению к «Астории». Зарево всё приближалось, и тени становились ярче. Наконец, завернув за угол, я увидел горящий дом. Дом был большой, каменный. Он горел неярко, и языки пламени изредка вырывались из-под крыши и из окон, лениво облизывая камень. У дома, прямо в сугробах, была расставлена мебель, кто-то спал на кушетке, а несколько женщин цепочкой стояли у парадной двери и деловито принимали вещи, которые им подавали сверху. Пожарных я не видел. Я подошёл к женщине, стоявшей в цепочке последней, но она, не оборачиваясь, сунула мне в руки какую-то вещь и сказала нетерпеливо:
— Держите! Держите!
Я взял вещь — это был обёрнутый в платок самовар, — поставил на снег и получил керосинку, которую тоже поставил на снег.
— Побыстрее там! — крикнула женщина в дверь, и я слышал, как по цепочке передали:
— Поскорее там!
Было очень тепло, даже жарко. Первый раз в Ленинграде я испытал чувство тепла.
— Куда ставите?! — раздражённо заметила мне женщина. — Вон к тем вещам несите. — Она пальцем показала на кушетку, где кто-то спал. — Перепутаем всё, потом разбирайся.
Я поднял самовар и керосинку, отнёс их к кушетке и вернулся на своё место.
Всё происходило очень медленно. Этот пожар не воспринимался как нечто чрезвычайное. Не было криков о помощи, плача пострадавших и снопов искр.