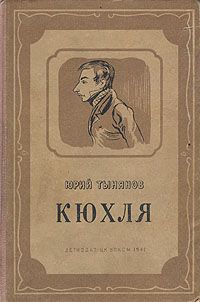– Стихотворец и всегда лицо публичное! – сказал он ей. Аннушка была на сносях.
В день отъезда Василий Львович струхнул. Он впервые уезжал так далеко. Сергей Львович, сестрица Аннет и все родные присутствовали при его отъезде и ободряли его.
Сергей Львович с душевным сожалением и завистью смотрел на увязанные вещи. Аннушка тихо плакала большими бабьими слезами и лобызнула барское плечо, причем Василий Львович, уже на правах заграничного путешественника, громко ее чмокнул и в первый раз назвал Анной Николаевной. Все друзья провожали Василья Львовича до заставы, там распили в честь его бутылку вина, Василий Львович обнял всех, всхлипнул, уселся, махнул платочком, тросточкой и поехал в Париж.
К шести годам он был тяжел, неповоротлив, льняные кудри начали темнеть. У него была неопределенная сосредоточенность взгляда, медленность в движениях. Все игры, к которым принуждали его мать и нянька, казалось, были ему совершенно чужды. Он ронял игрушки с полным равнодушием. Детей, товарищей игр, не запоминал, по крайней мере ничем не обнаруживал радости при встречах и печали при разлучении. Казалось, он был занят каким-то тяжелым, непосильным делом, о котором не хотел или не мог рассказать окружающим. Он был молчалив. Иногда его заставали за каким-то подобием игры: он соразмерял предметы и пространство, лежащее между ними, поднося пальцы к прищуренному глазу, что могло быть игрою геометра, а никак не светского дитяти. Откликался он нехотя, с досадою. У него появлялись дурные привычки – он ронял носовые платки, и несколько раз мать заставала его грызущим ногти. Впрочем, последнее он, несомненно, перенял от самой матери.
Мать подолгу смотрела на него, когда он замечал это, отводила взгляд. Дяденька Петр Абрамович был прав, он был решительно похож на деда, на Осипа Абрамыча; она не помнила отца и с детства боялась его имени; Марью Алексеевну она не спрашивала, но всем существом понимала и чувствовала: сын пошел в него – и ни в кого другого. Она стала прикалывать булавками носовой платок, который мальчик терял. Это было неудобно, и он начал обходиться без платка. Она стала связывать ему руки поясом, чтобы он не грыз ногтей. Неизвестно, как и откуда могли прийти опасности, проявиться дурные и странные черты у этого мальчика, похожего на своего деда. Мальчик не плакал, толстые губы его дрожали, он наблюдал за матерью.
Вообще он обещал быть дичком. Тетка Анна Львовна верхним чутьем все это почуяла. Она теперь часто бывала у них. Брат Василий был временно спасен, в Париже, приходилось спасать брата Сергея. Надине она ничего не говорила, но все кругом подмечала, все непорядки. Если к столу подавали, случалось, надтреснутый стакан, она говорила:
– Ах, стакан битый!
Когда Никита раз позабыл поставить Сергею Львовичу уксус, она сказала ему холодно:
– Принеси уксус, горчицу и все к тому принадлежащее.
Надежда Осиповна при ней нарочно роняла чашки, чтоб чем-нибудь разрядить гнев, который у нее накипал.
Но в одном они сходились – и Аннет и Надина – Александр рос совсем не таким, как нужно: в нем не было любезности. Тетка полагала, что воспитание виновато.
– Александр, встаньте, – говорила она.
– Сашка, поблагодари отца и мать.
Сашкой звали его отец и мать, когда изображали нежность. Но тетка произносила это имя со злостью, и он не терпел, когда его так называли.
Александр вставал. Он благодарил отца и мать. Однажды, посмотрев на тетку, он вдруг улыбнулся. Тетка обомлела: улыбка дитяти была внезапна, неуместна и дерзка.
– Чему ты смеешься, что зубы скалишь? – спрашивала она с тревогой. – Ну, что смешного нашел?
– Сашка, поди вон, – приказал Сергей Львович.
Александр встал из-за стола и пошел вон.
У дверей наткнулся он на Арину. Глядя на него жалостливо, Арина сунула ему пряник и мимоходом прижала к широкой, теплой груди.
Он пробирался по родительскому дому волчонком – бочком, среди тайно враждебных ему предметов. Он был неловок, бил невероятно много посуды; так по крайней мере казалось Сергею Львовичу. Сергей Львович с тоской чувствовал ценность падающих из рук этого ребенка стаканов. Не замечая окружающих вещей и не дорожа ими, он с необыкновенной ясностью ощущал их незаменимость в момент боя. Это было главным страхом семейства Пушкиных – убыль и порча вещей. Сергей Львович приходил в отчаяние из-за пропажи какого-нибудь платочка, он изнемогал от волнения, когда не находил на месте новой французской книжечки. Без нее жизнь казалась неполной и жалкой. Он во всем винил детей. Книжечка находилась, и он равнодушно швырял ее в сторону. Вещи казались незаменимыми, гибель их неоплатной. Каждый стакан был в опасности.
Надежда Осиповна била непроворного мальчика по щекам, как била слуг, звонко и наотмашь, как все Ганнибалы. Родители склонялись над осколками. Сергей Львович пытался восстановить первоначальный вид стакана и безнадежно махал рукой: невозможно! Александр бил вдребезги. Надежда Осиповна несла свой гнев в девичью; она возвращалась тяжело дыша и с отрывистой речью, но умиренная. Из девичьей доносилось осторожное, тонкое всхлипывание – побитая девка скулила.
Постепенно, не сговорясь, родители начинали глухо раздражаться, если приходилось подолгу смотреть на сына. Это был ничем не любезный ребенок, обманувший какие-то надежды, не наполнивший щебетаньем родительский дом, как это предполагал Сергей Львович.
Вскоре родился третий сын и наречен Львом.
Лев был кудрявый, веселый, круглый. Сергей Львович в первый раз почувствовал себя отцом. Он умилился и поцеловал Надежду Осиповну с чувством. Слезы текли по его лицу. Надежда Осиповна тоже полюбила сына, сразу и вдруг, без памяти. Остальные дети для нее более не существовали. Через неделю все пошло своим порядком.
Иногда Сергей Львович, занятый своими мыслями, вдруг с удивлением замечал своего старшего сына. Он недоумевал, огорчался. Дети кругом были именно детьми, во всем милом значении этого слова. Его сын напоминал сына дикаря, какого-нибудь Шатобрианова натчеза. Он охотно читал Шатобриана, и самолюбию его льстило, что его брак с Надеждой Осиповной всеми замечен. Но одно дело любовница, даже жена, и совсем другое дело сын. Так жадно стремиться к тому, чтобы все было как у всех достойных, – и встретить такое жестокое отовсюду непонимание! Сергей Львович втайне сам становился в тупик перед своей семейственной жизнью. В квартире – а они меняли их что ни год – он прежде всего занимал кабинет и место у камина. В кабинете стоял письменный стол в полкомнаты, на котором всегда лежал лист чистой бумаги. Сергей Львович писал там свои письма. Он смотрел в окно и останавливал всех людей, пробегавших на кухню и в людскую. Он спрашивал их, кто, куда и зачем послан. Писем он писал мало. Чистый лист лежал неделями на его столе. Глаза застилало дымкой, губы шевелились и улыбались. Сергей Львович погружался в мечтательное остроумие: он ставил в тупик воображаемых противников неожиданными эпиграммами. Грубая существенность не достигала его кабинета: домашние уважали его занятия. Порою он отмыкал ящик стола особым ключиком и доставал заветные тетради. Они были в зеленых тисненых переплетах с золотыми разводами по корешкам. Он открывал их и медленно, прищуря глаз, читал. Рука его слегка дрожала. Рисунки были исполнены тушью, розовой и красной краской, а то и чернилами, рукою опытной и смелой. Весь Пирон, Бьевриана, избранные отрывки из Дора, а потом шла безыменная мелкая сволочь Парнаса, до того пряная, что у Сергея Львовича застилало взгляд. Были и русские авторы, но Барков был груб, и до французов ему было вообще далеко. Французы и самую наготу умели делать забавной.
Надежда Осиповна, которая кочевала, как цыганка, из комнаты в комнату, то и дело меняя расположение комнат и порядок мебелей, все изменяя на своем пути, не осмеливалась нарушать его занятий. Ее жизнь, впрочем, сосредоточивалась в спальной: там она сидела, не выходя по целым дням, нечесаная и немытая, и грызла ногти, пока не было гостей. Вдруг находила на нее охота воспитывать детей. Или с месяц подряд каждый вечер изнеможенный Сергей Львович должен был вывозить жену. Потом мать снова погружалась в пустынную спальную.
Сергей Львович молодел при гостях лет на десять, потому что никто, кроме гостей, не мог достаточно оценить его. Он и жил и дышал на людях. Утром, прохаживаясь у зеркала в гостиной, он даже, случалось, мельком репетировал первый момент появления гостя: наклонял голову, легко, почти неуловимо, и тотчас откидывал назад. Александр видел, как губы отца шевелились и улыбались, а взгляд становился любезным и умным. Заметив Александра, он морщился, принимал скучный вид. Ему мешали.
Александр любил гостей. Зажигали свечи, у матери становился певучий голос. Смех ее был гортанный, как воркотня голубей весной, у голубятни. Отец сидел в креслах уверенно, не на краешке, как всегда. Он казался главою семьи, владел разговором; мать безропотно его слушала и ни в чем не возражала. Это была другая семья, другие люди, моложе и лучше, незнакомые. При гостях мать ему улыбалась, как только иногда улыбалась Левушке. В их присутствии о них рассказывали гостям длинные истории, которые он с удивлением слушал, и называли их mon Sachka и mon Lolka с нежностью, которой он боялся.