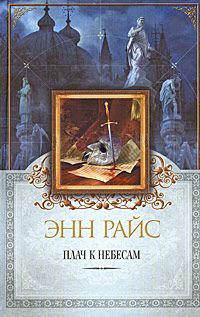И тут ему стало страшно.
Тонио умолк. И глядел на нее, словно не веря собственным глазам. Он чувствовал, что она превращается в другого человека.
Изменение было трудноуловимым, медленным, но безусловным. И долгое время он не мог вымолвить ни слова.
Теперь он видел ее целиком: кружевной пеньюар, босые ноги, худое лицо с раскосыми византийскими глазами, маленький рот, бесцветные губы. Губы тряслись, и все тело колотила дрожь.
— Мама? — прошептал он.
Ее рука обожгла его запястье своим прикосновением.
— Так в доме есть его изображения? Где они? — равнодушно спросила она — удивительно молодая, очень серьезная и невинная.
Она резко встала, и Тонио тоже вскочил. Она надела желтый шелковый халат, подождала, пока он вытащит из подсвечника свечу, и последовала за ним.
В ее облике и поведении было что-то ненормальное. Уже на полпути в столовую он понял, что она идет босиком и даже не замечает этого.
— Где? — повторила она вопрос.
Он открыл двери и показал на большой семейный портрет. Марианна смотрела на него, а потом глянула на сына в замешательстве.
— Я покажу тебе, — быстро сказал он, успокаивая ее. — Лучше всего его видно, если смотреть вблизи. Пойдем. — И он подвел ее к картине.
Свеча не понадобилась. Лучи предвечернего солнца пробивались сквозь зарешеченные окна, и спинки стульев были теплыми на ощупь, когда он провел по ним рукой.
Он подвел ее ближе.
— Вот. Смотри. Под черным слоем.
И приподнял ее, удивившись тому, какая она легкая, и тому, как дрожит ее тело. Подвешенная в воздухе, она приложила левую ладонь к картине, и ее пальцы приблизились к силуэту, что был там спрятан. И внезапно она его увидела. Тонио почувствовал ее потрясение и то, как она стала медленно впитывать каждую подробность, словно фигура, много лет пребывавшая в небытии, действительно выплывала на свет.
У нее вырвался стон. Тихий вначале, он все нарастал, нарастал, а потом неожиданно прервался. Мать зажала рот и так резко рванулась, что Тонио не удержал ее. Оказавшись на полу, мать отшатнулась и, широко распахнув глаза, снова застонала.
— Мама? — Он вдруг испугался. И постепенно понял, что ее лицо превращается в ту совершенную маску ярости, которую он часто видел в далеком детстве.
Почти неосознанно он поднял руки, и все же ее первый удар пришелся ему по скуле, и от резкой боли он тут же сам испытал ярость.
— Прекрати! — закричал он.
Она снова ударила его, на этот раз левой рукой, а сквозь ее стиснутые зубы вырывались короткие стоны.
— Прекрати, мама, прекрати! — кричал он, скрестив перед лицом руки и гневаясь все больше и больше. — Теперь я этого не вынесу, прекрати!
Но ее удары сыпались на него снова и снова, и она теперь кричала в голос, и он никогда в жизни не испытывал к ней такой ненависти, как сейчас.
Он поймал ее запястье и оттолкнул ее, но левой рукой она успела вцепиться ему в волосы и потащила за собой.
— Не делай этого! — орал Тонио. — Не смей!
Он обнял ее, пытаясь прижать к своей груди и утихомирить. Она рыдала, из-под ее ногтей сочилась кровь. И тут, как он со стыдом осознал, двери столовой отворились.
Тонио раньше матери увидел отца, а с ним его секретаря, синьора Леммо. Тот отступил назад и в один миг словно испарился.
А она все била сына по щекам, все кричала на него, и в это время Андреа приблизился к ней.
Должно быть, прежде всего она увидела его мантию, полыхнувшую багряным цветом, и тогда вмиг ослабла, стала падать навзничь. Андреа подхватил ее, открыл ей свои объятия и медленно прижал жену к себе.
С горящим лицом Тонио беспомощно наблюдал это. Никогда прежде не видел он, чтобы отец касался матери. А она, истерически плача, извивалась, отталкивалась от него, словно не желала позорить его мантию, словно пыталась спрятаться, заслонившись собственными руками.
— Дети мои, — прошептал Андреа.
Он перевел взгляд своих мягких карих глаз на ее свободное домашнее платье, а потом на босые ноги. Затем медленно, печально посмотрел на сына.
— Я хочу умереть! — билась она в истерике. — Я хочу умереть!
Голос вырывался из глубины ее горла. Андреа ласково коснулся ее волос. Потом его пальцы разжались, ладонь легла на ее голову, и он притянул ее к себе.
Тонио вытер слезы тыльной стороной руки. Поднял голову и тихо сказал:
— Это моя вина, отец.
— Ваше превосходительство, позвольте мне умереть, — прошептала она.
— Выйди, сын мой, — сказал Андреа ласково. Но тут же поманил Тонио и твердо пожал его руку. Прикосновение было холодным и сухим и в то же время непередаваемо страстным. — Иди, оставь меня наедине с твоей матушкой.
Тонио не шевельнулся. Он смотрел на нее. Ее узкая спина сотрясалась от рыданий, а волосы неряшливо падали на отцовскую руку. Он молча взывал к отцовскому милосердию.
— Иди, иди, сынок, — сказал Андреа с безграничным терпением в голосе. И словно для того, чтобы успокоить Тонио, он снова взял его руку, ласково пожал ее мягкими сухими пальцами и отпустил, а потом махнул в сторону открытой двери.
Это был тот период его жизни, когда голос Гвидо, будь он «нормальным» юношей, должен был бы измениться, упав с мальчишеского сопрано до тенора или баса. Это очень опасное время для евнухов. Никто не знает почему, но тело словно пытается остановить волшебство, над которым больше не имеет власти. И это напрасное усилие оказывается очень опасным для голоса, отчего многие учителя пения не разрешают своим ученикам-кастратам петь в течение тех нескольких месяцев, пока ломается голос. Считается, что это дает надежду на его скорое восстановление.
И обычно голос восстанавливается.
Но иногда этого не происходит.
И вот с Гвидо случилась именно эта трагедия.
* * *
Прошло полгода, прежде чем в этом убедились все. Для самого Гвидо это были месяцы невыразимых страданий. Снова и снова пытаясь запеть, он издавал лишь грубые и слабые звуки. Его учителя Джино и Альфредо не могли смотреть ему в глаза. Даже те, кто раньше завидовал ему, теперь цепенели от ужаса.
Но конечно, никто не ощущал эту потерю так, как сам Гвидо, никто, даже маэстро Кавалла, воспитавший его.
* * *
И вот однажды, после полудня, собрав все деньги, полученные на праздниках и званых ужинах, на которых он пел, и все золото, которое ему не хватило времени потратить, Гвидо исчез, не сказав никому ни слова, ушел из консерватории с одним узелком на плече.
* * *
У него не было ни проводника, ни карты. Но он задавал вопросы и десять дней шел по крутым и пыльным дорогам, уводившим его все дальше в глубины Калабрии.
И вот наконец он достиг Карасены. На рассвете вышел из гостиницы, где провел ночь на соломенной подстилке, и, поднявшись вверх по склону, обнаружил дом, в котором когда-то родился, на отцовской земле. Дом ничуть не изменился с тех пор, как двенадцать лет назад он его покинул.
У очага стояла приземистая, толстая женщина с круглым лицом, впавшими от отсутствия зубов щеками и выцветшими глазами. Руки ее были запачканы жиром. В первый момент он засомневался. Но потом, конечно, узнал ее.
— Гвидо! — прошептала она.
И все-таки боялась к нему прикоснуться. Низко поклонившись, протерла скамью, чтобы он мог сесть.
Вошли его братья. Прошло несколько часов. Грязные дети ютились в углу. Наконец появился отец, встал над ним, такси же громадный и неуклюжий, как прежде, и обеими руками протянул ему грубую чашу с вином. А мать поставила перед ним сытный ужин.
Все смотрели на его модный камзол, кожаные сапоги и шпагу в серебряных ножнах, что висела у него на боку.
А он сидел и смотрел на огонь, словно никого рядом не было.
Но иногда глаза его оживали, и он обводил взглядом мрачное сборище могучих волосатых мужчин с черными от грязи руками, одетых в овчину и сыромятную кожу.
«Что я здесь делаю? Зачем я пришел?»
Он встал, чтобы уйти.
— Гвидо! — снова произнесла мать.
Быстро вытерев руки, подошла к нему, словно желая коснуться его лица. И это было лишь второе обращение к нему.
И что-то поразило Гвидо в ее голосе. Это был тот же тон, каким говорил с ним молодой маэстро в затемненной комнате для занятий, и это было словно эхо того голоса, который принадлежал человеку, державшему его голову во время оскопления.
Он смотрел на нее. Его руки зашевелились, обшаривая карманы. Он достал подарки, полученные за великое множество маленьких концертов. Брошь, золотые часы, украшенные жемчугом табакерки и, наконец, золотые монеты, которые он стал совать каждому из собравшихся в руки, сухие, как высохшая грязь на скале. Мать плакала.
К ночи он вернулся в гостиницу в Карасене.
* * *
Добравшись до суматошного центра Неаполя, Гвидо продал пистолет, чтобы снять комнату над таверной. Заказав бутылку вина, перерезал ножом вены, уселся и начал пить вино, глядя на струящуюся кровь. Потом потерял сознание.
Но его обнаружили прежде, чем он успел умереть. И увезли обратно в консерваторию. Там он проснулся с перебинтованными запястьями в собственной постели и увидел своего учителя, маэстро Кавалла, плачущего над ним.