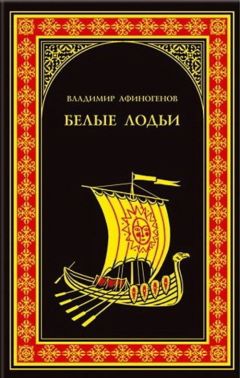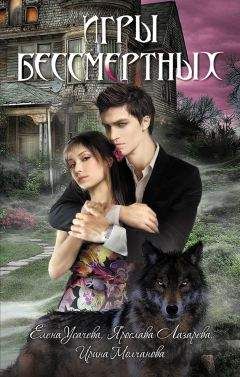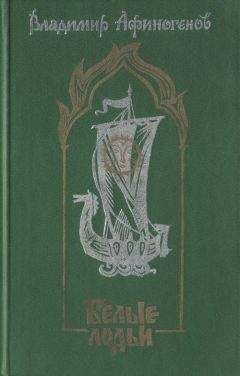Дубыня вспомнил это и усмехнулся: «Добро окупается… Может, ты был, отец, не совсем прав?… Душа твоя должна видеть сверху, как покарала нашу семью жизнь. А за что? Потому что мы были добрыми… А я восстал, превратился в татя… Видимо, так угодно богам».
Чернобородый сошёл с лодки на берег и направился к низенькой избе, что стояла ближе всех к Альме.
Луна уже взошла высоко, и бледный свет её ровным мертвенным покрывалом застлал всё вокруг, и будто разом в избах приугасли светильники, растворились дымы в этой неподвижной мутной белизне. И снова где-то за Оленьим логом завыли волки. По телу Дубыни пробежали мурашки, он вымахнул на берег по каменным ступеням и очень скоро очутился перед знакомой дверью, на которой знал и любил каждую щербину и каждую трещину. Взялся за кольцо, хотел постучать, но тихонько опустил его. Обошёл три раза вокруг избы, заглянул в окна, затянутые бычьими пузырями, но ничего, кроме размытого света лучины, не увидел. Прислушался к сонной возне овец и хрюканью свиней в хлеву, направился снова к двери. И тут почувствовал, как сзади кто-то крепко обхватил его за плечи. Дубыня правой рукой потянулся за нож, но и руку сжали больно, обернулся и при лунном свете увидел лицо, глаза. Воскликнул:
— Брат мой!
Тот тоже, узнав его, по-мальчишески всхлипнул и уронил свою голову на плечо Дубыни. Потом поднял её и проговорил:
— Дубыня?! Радость-то какая! Неужели ты?! — не верил он ещё. — Я сижу, чиню хомут, слышу — тихо кольцо на двери звякнуло. Вышел на порог, гляжу — возле избы ходит кто-то. Я — за угол, и ты как раз вышел… Пойдём в дом.
— Погоди, давай посидим… А то у меня душа сейчас в небо взлетит… Да ещё тут этот проклятый волчий вой, будь он неладен.
— Вторую ночь как объявились за логом… Жена говорит: что-то должно произойти. Вот и произошло… — Младший снова обнял Дубыню.
— Жена?! Так ты, значит, женат, и дети, наверное, есть? — спросил Дубыня.
— Есть, двое — мальчик и девочка.
— А сестра как?
— Давай и впрямь посидим… Сейчас о ней расскажу…
У Дубыни снова заколотилось сердце. Увидев, как изменилось лицо брата при имени сестры, младший успокаивающе положил свою руку ему на плечо:
— Не пугайся, брат, с нами она. Только… — голос его дрогнул.
— Что?! Говори! — тряхнул его за грудки Дубыня.
— Только сейчас на неё взглянуть страшно… Она плеснула себе в лицо огненный отвар из бирючьих ягод. Чтоб, значит, никто из хазар на неё не позарился, как когда-то тиун на старшую сестру.
Дубыня молчал и кусал губы. «Боже правый, где твоя справедливость?!» И на глазах у него выступили слезы.
— Полюбила она парня. Хороший был парень, работящий, красивый, сильный. Да продали его за долги. Угнали куда-то, может, попал в солдаты, может, гребёт вёслами на византийских галерах. Вот сестра и… А какой красавицей росла, с лица только воду пить… Тебя первое время, как убег, вспоминала часто, спрашивала: «А где мой другой братик?» Маленькая ещё была. А когда подросла — уже и не спрашивала, только однажды сказала, что погиб ты, сон она видела… И как будто успокоилась…
Дубыня стиснул руками лицо, до боли сжал веки — крепился, чтоб не разрыдаться.
— А теперь пойдём, я разбужу их… — Младший взял под локоть Дубыню.
— Нет, брат мой, не пойду я теперь… Не могу! Не могу видеть изуродованного лица сестры. Потом, сам говоришь, умер я для неё. Сам говоришь, успокоилась она… Не будем ей, голубке, рвать душу… И не говори, что я был. Бог даст, может, и свидимся. Прощай, братишка… И благословляю вас всех на правах старшего.
Дубыня снова вернулся в лодку и всю ночь просидел в ней. Думал. И слышал волчий вой, но уже он не волновал, как прежде, сердце — оно болело и разрывалось на части совсем от другого… «Да, прав Доброслав, мы должны схлестнуться с врагами… Обязательно должны, иначе сердце изнеможет в бесполезной тоске, изойдёт кровью и перестанет биться… А оно должно стучать в нашей груди, как в ковнице молот, кующий меч…»
Когда только-только над лесом и холмами появилась светлая синяя полоса, Дубыня направился к переправе, которую уже ладили бородатые мужики. Через некоторое время от дома тиуна потянулись подводы с солью, послышался зычный бодрый голос Фоки.
Доброслав, завидев Дубыню, приобнял его за плечи и шепнул:
— Вчера купил для Фоки меду и напоил, чтоб он тебя не хватился. Утром ещё в его баклажку долил. Вот он и весёлый спозаранку. Повидал своих?
— Повидал… — чуть не плача, ответил Дубыня. — Потом расскажу.
Доброслав внимательно посмотрел другу в глаза, застланные слезами, сказал понимающе:
— Ничего, брат, будет и у нас праздник.
В Херсонес солевары прибыли через два дня утром. Над городом стояло тёплое солнце. Хорошо грело. Над старым, заросшим вековыми дубами некрополем, ещё с захоронениями первых столетий, простиравшимся от крепостных стен до самых холмов, громко кричали грачи; у башни Зенона с входной калиткой, переминаясь с ноги на ногу, стояли солдаты и щурились от яркого света.
Входную калитку строители проделали слева башни (если смотреть на неё с внешней стороны) для того, чтобы нападающие поражались в правый, незащищённый бок, ведь щит воин держал в левой руке, а на башню прикрепили мраморную плиту с греческими письменами. Фока подъехал поближе, приподнялся на стременах и по складам стал читать.
— «Самодержец кесарь Зенон, благочестивый, победитель, трофееносный, величайший…» О-о, да тут ещё несколько величаний: и присночтимый, и их благочестие… И что интересно — даровал он этому городу выдачу денег, которые собрали преданные баллистарии. Значит, воины, обслуживающие метательные машины, деньги собрали, а император Зенон лишь даровал их… — воодушевлялся Фока, в голове которого ещё бродил хмель, продолжая читать далее: — «На эти суммы, возобновляя стены во спасение самого города и благодарствуя, поставили мы эту надпись в вечное воспоминание их царствования. Возобновлена башня эта трудом светлейшего комита Диогена, лета 512».
Фока снял с себя плащ, засунул его в кожаную сумку — жарко стало, вспотел, губы у него лоснились, глаза хитро посверкивали. Глядя на него, Доброслав пошутил:
— Фока, а если бы твои замечания по поводу надписи да передать начальнику стражи этой башни, вот тогда бы было интересно…
— Но, но… я ничего такого не говорил, Клуд, — вдруг испугался велит. — И вообще я тут главный, а ты, колдун, смотри за своим языком… Распустил его! Я ещё твои слова, сказанные у вашей чёртовой кумирни, припомню…
— Ну ладно, Фока, не обижайся… Вот войдём в город, я тебя ещё вином угощу.
— То-то же, — примирительно сказал Фока и повернул лошадь к железной двери входной калитки.
Убедившись, кто такие, их пропустили, и соляной обоз двинулся вдоль стен, тянувшихся по обе стороны на расстояние нескольких стадий, уже к городским воротам. Поверху стен, заканчивающихся парапетом с каменными треугольными зубцами, ходили стражники, бряцая мечами о щиты и перекликаясь между собой.
— Эй, славы[37], не соль ли везёте? — по-русски спросил один из них, высунув голову в проем между зубцами.
— Соль, — ответил Клуд, вглядываясь в лицо стражника. Судя по цвету волос, выбившихся из- под кожаного шлема, тот был тоже из славян.
— Киньте кусок, — попросил стражник, — а то мы уже третий день без соли похлёбку хлебаем.
Доброслав кинул ему два куска потвёрже, и стражник ловко поймал их, хотя высота крепостных стен составляла больше двадцати двух локтей[38]. Раньше соль ввозилась в город из окрестностей, где располагались соляные озера, но их вычерпали до дна, и бури давно занесли их песком и землёй.
У городских ворот пришлось расстаться с ещё тремя кусками.
Городские ворота имели вид коридора, образованного боковыми пилонами. В них были вделаны крепления двух кованых ворот и падающей железной решётки с острыми зубьями.
За воротами чуть наискосок стояла казарма херсонесского гарнизона, выходившая глухой боковой стеной на главную улицу Аракса, тянувшуюся через весь город к морю и заканчивающуюся огромной площадью с недавно выстроенной на ней базиликой[39].
Казарма клалась из белого камня. По оконным рамам вились засохшие ветви плюща, на ступеньках из грубо отёсанных базальтовых глыб сидели четверо безоружных солдат.
Дубыня обернулся к Клуду и сказал:
— Может, этих спросим, как Лагира найти?
— Попробуем.
Но от этих четверых никакого толку Доброслав и Дубыня не добились: солдаты-ромеи и солдаты-славяне, а с ними и аланы, содержались отдельно; по заносчивым загорелым лицам и толстым носам было видно, что эти — византийцы. В херсонесском гарнизоне служили даже сарацины, в общем, всем этим людям, исключая греков, служба давала немного денег, одежду и пропитание. А шли они сюда не от весёлой жизни: многих заставила нужда, среди них находились и купцы, дочиста ограбленные в дороге, поэтому застрявшие в Херсонесе.