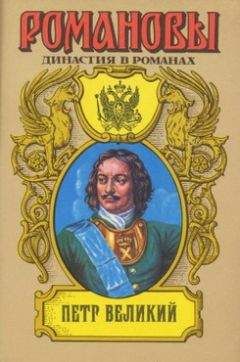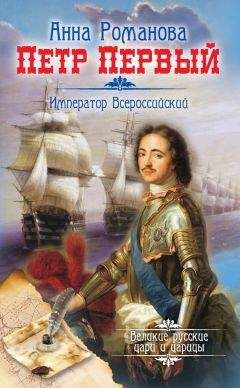Чутьё редко обманывало мальчика, который уже с детства искал правды и прямоты в отношениях людских.
Находясь в самой кипени дворцовых хитросплетений и интриг, царевич рано почуял сложный переплёт, тёмную, причудливо запутанную основу окружающей его жизни и, одарённый от природы, развивался особенно быстро благодаря таким многосложным впечатлениям и влияниям среды.
Вот почему и сейчас царевич не только слушает, о чём толкуют кругом, но и вглядывается внимательно, как ведётся беседа.
— А што ж ты один, Петруша, встречаешь меня? Иванушка где же? Здоров ли царевич?
И Федор обратился в сторону князя Прозоровского.
— Спать завалился братец. С курами на нашест… Нешто ты не знаешь, государь-братец? — с лукавой улыбкой ответил Пётр.
Прозоровский степенно доложил:
— В своём добром здоровье царевич, челом тебе бьёт, государь. Уж не погневайся: почивает в сей час. Дохтура же приказывали не раз: больше бы спал царевич. Мы волю в том и даём царевичу.
— А Ваня и рад, — опять подхватил Пётр. — Вот уж соня. Он и не спит — а ровно спячий… Так вот…
И мальчик, сощурив глаза, удлинив свою мордочку, стал удивительно похож на болезненного, подслеповатого, слабого умом и телом Ивана-царевича, которому шёл одиннадцатый год.
Всех насмешила выходка, но царица сейчас же, осилив улыбку, строго заметила.
— Грех так, Петруша, брата на смех подымать да рожи строить. Хворый он, вот и слаб от той причины. Да он покорный, слушает и меня, и всех старших. Не то што меньшой сынок мой… С этим и сладу нет. Гляди, милей было бы, коли бы и он спал поболе. Тогда, и в покоях потише, и целее все… Никово-то не обижает Ваня, порой и от тебя стерпит, коли што… И выходит: смеётся батог над кнутовищем, а сам и похуже.
Смущённый выговором, мальчик весь зарделся, зарылся лицом в колени той же матери, которая пожурила его, и всё-таки, не унимаясь, проговорил:
— Он злой. Он карлицу Дуньку защипал… Кошку бил… А я ж не обижаю ево… Мне же он люб, братец Иванушка…
— Ну, вестимо, вестимо, — протягивая руку и гладя по шелковистым кудрям братишку, вмешался Федор. — Я знаю, ты добрый у нас… А смех — не грех… Сядь ровненько. Послухай, што сказывать стану. Где был я нынче, што видел.
Сразу выпрямился мальчик и с любопытством обратился рдеющим личиком к царю:
— В зверинце был, государь-братец? Зверьё новое глядел? Али послы подносили што из чужой земли? Али…
— Да стой. Пожди. Скажу — и узнаешь. Зверьё не зверьё, а сходно с тем. Пареньков не похуже тебя видал полны покои. Только они не творят из лица подобия братнево на потеху. Не досаждают родительнице и всем иным присным. В науке дни проводят… Стихири всякие согласно поют.
И Федор рассказал о посещении школы Лихудов. Не успел докончить царь рассказа, как мальчик вскочил и выбежал из комнаты.
Одна из мамушек поспешила за ним
— Экой огонь-малый, — не то с удовольствием, не то с оттенком грусти заметил царь. И даже словно зависть затуманила его лицо…
Федор вспомнил своё детство Он не был таким расслабленным, полуидиотом, как брат Иван, но всё-таки почти до десяти лет больше сидел на руках у мамушек, почти никогда не бегал, не резвился, хворал часто, питался больше снадобьями из дворцового Аптекарского приказа, чем обычным царским столом… Вот почему лёгкая, невольная зависть омрачила душу юноши-царя. Он подумал, что и его дети, пожалуй, когда он женится, никогда не будут такими сильными, рослыми и бойкими, как этот мальчик, уже и теперь на голову превосходящий ростом своих сверстников.
Не успел Федор обменяться несколькими фразами с царицей, как мальчик появился снова, держа в ручонках не сколько больших, довольно тяжёлых томов.
Мамушка шла за ним, тоже нагруженная книгами.
— Я тоже умею, государь-братец, — громко объявил царевич, сваливая на скамью свою ношу и подвигая к брату табурет. — Вот гляди…
Из груды книг он достал две-три в кожаных переплётах и перенёс на табурет.
— Вот гляди: «История царства Московского»… Про царей. Мне все читали… Хто был когда, как государствовал… Эту книгу дедушка Артемон складывал… Вон и лики царские. Вот дедушка, царь Михайло… Вот тятя. Вот царь Иван Васильевич — грозной да злой который был… Вот князь великий с калитой[29]… Мне все ведомы… И скажу тебе про них… Про ково хочешь?
Живо перебирал мальчик пухлыми пальчиками листы тяжёлого тома «История в лицах государей московских», прекрасный, многолетний труд недавно сосланного боярина Матвеева.
Неловкая тишина воцарилась в палате.
Глаза Натальи потемнели и наполнились слезами. Скрывая их, царица отвернулась к окну, словно разглядывала что-то во дворе.
Федор вспыхнул и невольно опустил глаза. У Нарышкина и Стрешнева сумрачны стали лица, а провожатые царя приняли сразу угрюмый, вызывающий вид, словно приготовились к стычке с врагами.
— Про ково же сказывать, государь-братец? — повторил вопрос мальчик и огляделся кругом, не понимая: отчего нет ответа, что значит внезапно наступившее молчание? Потом, как будто сообразив что-то, закрыл тихонько книгу, отодвинулся к матери и негромко спросил:
— А што, государь-братец, скоро с воеводства дедушка воротится? Приказал бы ему сызнова на Москву. Скушно без нево. Вон и матушка скучает. Он здесь ещё про царей будет складывать… И про тебя, и про меня, как я царём стану.. Слышь, братец, пошли инова на воеводство ково.
Опять не последовало ответа ребёнку.
— Княгинюшка, возьми Петрушу, веди в опочивальню. Молочком напоить, гляди, не пора ли? А там и на опочив.
— Уж не рано… Да свету бы нам, — обратилась, овладев собой, Наталья к мамке Петра, княгине Голицыной. — Ишь, темнеть стало… А может, государь, и потрапезовать с нами поизволишь? Готово у нас, гляди, все…
Федор, отгоняя смущение, провёл рукой по лицу и даже встряхнулся весь:
— Нет, нет, благодарствую, государыня-матушка… Так, побеседовать зашёл.. Ну, братишко, ступай, коли пора… Доброй ночи. Послушен будь. Вон какой ты большой стал… Пятый годок, без малого.. И тебе за науку пора… Хочешь ли? Станешь ли?
— А коли я ладно знать буду, ты и мне чего дашь, государь-братец?
— Дам, дам, милый. Што захочешь, все дам…
— Вот любо. Ну я стану слушать. Я пойду с мамушкой. Слышь, княгинюшка, свет Ульяна Ивановна, веди меня. Я и баловать не стану. Тихо, слышь.. Во-о как ладно…
И, захватив свою любимую дедушкину «Историю», он стал кланяться поочерёдно:
— Доброй ночи, матушка… Доброй ночи, государь-братец… Бояре, ночь добрая…
Мать порывисто прижала мальчика к своей груди и отпустила его с долгим поцелуем.
Федор тоже привлёк, поцеловал и перекрестил брата-крестника:
— Храни тебя Господь… Расти; здоровый будь духом и телом… Ступай с Богом…
Мальчика увели. Ушла за ним и вторая мамка его, боярыня Матрёна Романовна Леонтьева.
— Пора, пора учить Петю, — после недолгого молчания повторил Федор. — Сдадим дядькам на руки малого. А там и учителей пристойных сыскать надобно. Как мыслишь, государыня-матушка?
— Твоя воля, государь. Приспела пора. Так уж у вас, у государей оно водится. Не все же ему с нами, с женским полом быть. И не рада, а надо… Сама вижу пора дядькам сына сдавать… А ково изберёшь, государь, не скажешь ли?
И с затаённой тревогой она глядела на царя, ожидая, кого он назовёт. Не поручит ли охрану ребёнка кому-либо из заведомых недругов её семьи, одному из Милославских, Хитрово или иному из ихней компании?
Чуткий Федор угадал тревогу мачехи, поспешил успокоить Наталью:
— Мне ли избирать? Кабы родитель был жив, помяни Господи душу его, он бы и выбрал. Он же и боярам приказал, коим в охрану вручил брата Петрушу. Из них сама и выбирай. Твоя воля родительская, государыня-матушка.
— Челом бью на милости, сынок-государь. Поздоровь, Боже, твою царскую милость. Коли поизволишь, потолкуем о том ещё, — вздыхая свободно, сказала Наталья — А можно бы в дядьки и князя Бориса Голицына позвать. Сам знаешь, повидал он немало. Учен много и нравом тих.
— Как соизволишь, государыня-матушка. Ево так ево. Ещё про кого надумаешь — скажи мне.
— Да вот не дозволишь ли, царица-матушка, и ты, государь, про учителя слово молвить? — вставая с поклоном заговорил Соковнин.
— Сказывай, што знаешь, боярин.
— Да вот коли надобно, знаю я человека, в грамоте сведущий и смирной, как овца. Моих пареньков учивал. Озорные они. А с им — ровно иные стали. Сами за науку берутся. Знает, видно, как заохотить ребяток. Попытать бы ево, как водится. Може, и в пригоду станет вашим государским милостям. Могу сказать: смиренник, добродетельный муж и Божественное писание добре знает. Не хуже попа иного.
— Поглядим, што же… Коли знаешь человека — и хорошо оно. Как звать-то ево?
— Никиткой звать, Моисеев сын, прозвищем Зотов, из Большого приказу, из твоих писцов государевых, московский же сам. И родню тут имеет не малую. Небогатый люд, да худого про них не слыхать. А для первой учёбы царевичу и не сыскать другого. Так думается мне, государь.