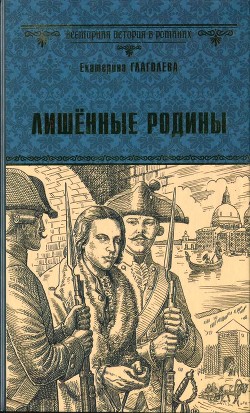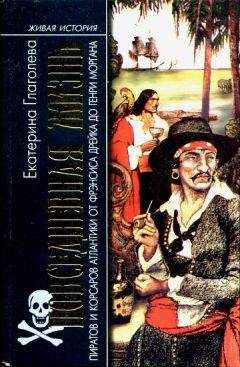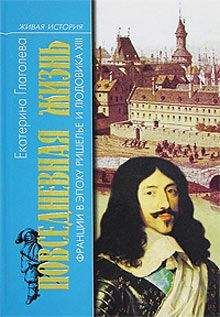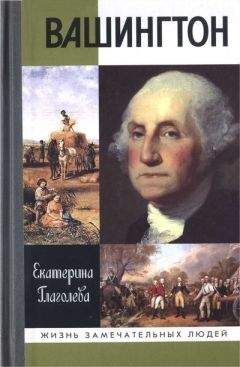Тюмень, Тобольск, Ишим, Тара, Томск, Красноярск, Нижнеудинск… На всём этом пути кибитки обгоняли толпы ссыльных, мужчин и женщин, которые шли пешком с небольшим конвоем. А куца тут сбежишь? От жилья до жилья путь неблизкий, в лесах дикие звери. Вот и бредут они пеши месяц за месяцем, год за годом. По пути колонна тает: арестантов сдают в рудники, на заводы — в Екатеринбург, Минусинск, Барнаул… Осужденные не на каторгу, а на поселение дорогою вступают в браки по жребию; их венчает капитан-исправник, а потом, как случится проездом какой-нибудь поп, так утвердит венчание: церкви тут редки.
В каждом крупном городе офицер брал конвой до следующего: боялся разбойников. Беглые из рудников и заводов часто соединялись с местными дикими ордами и нападали в глухих лесах на купеческие караваны, а долго ли и впрямь кибитки с сундуками перепутать? Узнав об этом, Городенский стал мечтать о нападении разбойников: нога уже почти зажила, ушел бы с ними, — но офицер, словно прочитав его мысли, объявил, что имеет приказ в подобном случае убить его первым. Пся крев…
Последняя остановка перед Иркутском была в селе; сюда же привезли полковника Копеца, четырежды раненного при Мацеёвицах и взятого в плен вместе с Костюшкой. Солдаты охраны были уже настолько измучены и искалечены, что всех арестантов уложили спать не по кибиткам, а в одной избе. Офицер погасил лампу, хотя та должна была гореть целую ночь; Городенский был этому только рад: спал он в этот раз крепко. А наутро офицер бился на полу в конвульсиях. Перетряхнул всю постель — деньги, деньги украли! Бумажника нет, а в нем были все арестантские деньги, казенные — на почту до Иркутска, по копейке за версту, на двадцать две лошади, жалованье на всю команду на шесть месяцев и на обратный путь для него самого! Что теперь делать? На что дальше ехать? Пошел в село, привел станового, велел ему всех обыскать. Полиция ничего не нашла, только у ксендза Раковского отобрали часы. Офицер отправил в Иркутск курьера — сообщить, что везет важных и секретных арестантов, однако его обокрали разбойники, хотя и при карауле. В подтверждение своих слов он собрал свидетельства от местных купцов — то ли задобрил, то ли те искренне ему поверили, потому что прежде и сами так пострадали. Копец, однако, шепнул украдкой Городецкому и Зеньковичу, что офицер, видно, где-то спрятал свой бумажник: полковника мучила бессонница, и ночью он слышал, как офицер встал и вышел из избы. Курьер воротился с деньгами и приказом поспешать.
V
Пенье трубы ворвалось в путаный сон, окончательно смешав явь и грезы; барабанная дробь прогнала его окончательно. Юлия рывком села на постели, в испуге натянув одеяло под подбородок. Кто здесь? В спальне было еще темно, только ночник мерцал на прикроватном столике. Но в освещенном прямоугольнике двери китайскими тенями обрисовались фигуры трубача и двух барабанщиков.
— Отставить! — скомандовал им тот, кто их привел.
Константин. Её жених.
За последние полтора месяца спокойное течение жизни Юлии Саксен-Кобургской, не менявшее своего направления четырнадцать лет, превратилось в бурный водоворот, от которого у нее захватывало дух и становилось дурно. В начале октября она с матерью и двумя сестрами приехала в Петербург. От Антуанетты и Юлии не скрывали цели этой поездки: одна из них может стать женой великого князя Константина, это большая честь и баснословная удача. Их старшая сестра София уже была помолвлена с одним австрийским генералом, к которому питала нежные чувства, но мать, герцогиня Августа, всё же испросила для нее разрешения приехать: возможно, дочь одумается, увидев «настоящую жизнь» при самом блестящем европейском дворе — не сравнить с затхлым провинциальным Кобургом, — и найдет себе партию получше. А любовь… Она длится лишь до алтаря.
Герцогиня, впрочем, старательно выискивала положительные черты в будущем зяте, чтобы указать своим дочерям, за что его можно полюбить. Силен и крепок, уже мужчина, хотя ему только шестнадцать лет, а ведь он еще вырастет; почти красавец, если бы не курносый нос и слишком глубоко посаженные глаза, придающие ему порой угрюмое выражение. Его старший брат Александр, конечно, красивее и любезнее, но в его манере есть что-то ленивое и вялое, а Константин выглядит живее, мужественнее, к тому же он более общителен, каждое утро ходит по городу в сопровождении всего одного офицера, вступает в разговоры с народом и, если заметит какие-нибудь беспорядки, немедленно сообщает своей бабушке-императрице — это ли не задатки будущего правителя!
Юлия смотрела на всё вокруг большими распахнутыми глазами. Каменно-прекрасный Петербург; просторные проспекты и площади; широкая, холодная Нева; огромный Зимний дворец с бесчисленным количеством покоев, с люстрами, отражающимися в мраморе колонн, театром, бриллиантовым залом и редкостями Эрмитажа; разряженные дамы и кавалеры, рядом с которыми гостьи из Кобурга казались золушками, наконец, сама императрица Екатерина, которой они были представлены, — очень полная, с морщинистым лицом и дряблыми щеками, но с величественной осанкой и походкой и словно излучающая сияние — то ли от бриллиантов, то ли от ауры имперской славы… К принцессам тотчас прислали корзины с тканями и портних, чтобы одеть их по последней моде. Балы, густой запах духов и навощенного паркета, по которому скользят проворные ноги танцующих; кавалергарды; обеды за длинным столом, покрытым негнущейся скатертью и заставленным тонким фарфором; мрачный цесаревич Павел и его милая супруга, красавец Александр и душка Луиза — они ведь станут подругами, не правда ли? — его сестры рядом со строгой генеральшей Ливен (дамой лет пятидесяти, с грубоватым лицом и цепким, проницательным взглядом) и… Константин.
Они почти не разговаривали. Своим пробудившимся женским чутьем Юлия понимала, что она ему не противна, однако их не тянуло друг к другу. Конечно, он довольно мил, и образован, и шутлив… Смогла бы она полюбить его? Жена ведь должна любить своего мужа и угождать ему… Ах, если бы он выбрал Антуанетту!
Прошло три недели их жизни в Петербурге. Наступило четвертое ноября (для русских — двадцать четвертое октября). Когда около шести часов вечера за Юлией послали, сказав, что мать зовет ее к себе, у нее захолонуло сердце. Это неспроста. Она вошла в комнату на ватных ногах, чувствуя, что вот-вот упадет в обморок. Там был Константин — бледный, потерянный. Шагнул к ней, молча поцеловал ей руку. Она смотрела на него, не зная, как отвратить неминуемое; черты его лица расплывались из-за слез, застилавших ей глаза; она услышала его сдавленный голос, донесшийся словно издалека: «Не правда ли, со временем вы полюбите меня?» Надо отвечать. «Да, — пискнула она, — я буду любить вас всем сердцем…» И разрыдалась.
Их поздравляли, благословляли… Матушка была счастлива, императрица довольна. Жизнь Юлии вновь переменилась: теперь она поступила под руководство баронессы Ливен, ее стали учить русскому языку и православному катехизису, ведь ей предстояло переменить веру и перейти в православие. Ей это было всё равно; ее пугало другое: что будет, когда она из невесты станет женой… Их с Константином заставляли больше времени проводить вместе. Он показывал ей ружейные приемы, порой, увлекшись рассказом об учениях, хватал за плечи и выкручивал ей руки. Однажды мать заметила на ее руке синяк. Юлия смутилась и покраснела, как будто в чем-то провинилась…
Как-то раз, рассеянно слушая болтовню фрейлин, Юлия вздрогнула, выхватив из разговора одно слово; ее словно ошпарило. Речь шла о чьем-то сватовстве, «и представляешь — она ему отказала!» Отказала!.. Могла ли она отказать Константину? Но нет, не может быть, чтобы они говорили о девице. Верно, это чья-нибудь матушка отказала ненадежному жениху…
…Барабаны снова выбивали дробь в глубине комнаты, куда Константин увел их от алькова. Проворно спрыгнув с кровати, Юлия шмыгнула за ширму и надела кружевной пеньюар, застегнув его под самое горло. Константин откинул крышку клавесина и звал ее к себе. Она повиновалась. Он стал насвистывать мелодию какого-то военного марша; барабанщики отбивали ритм.