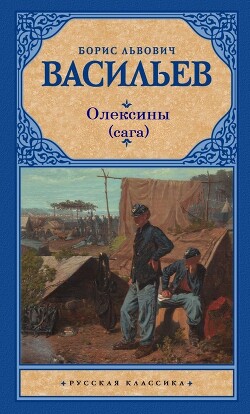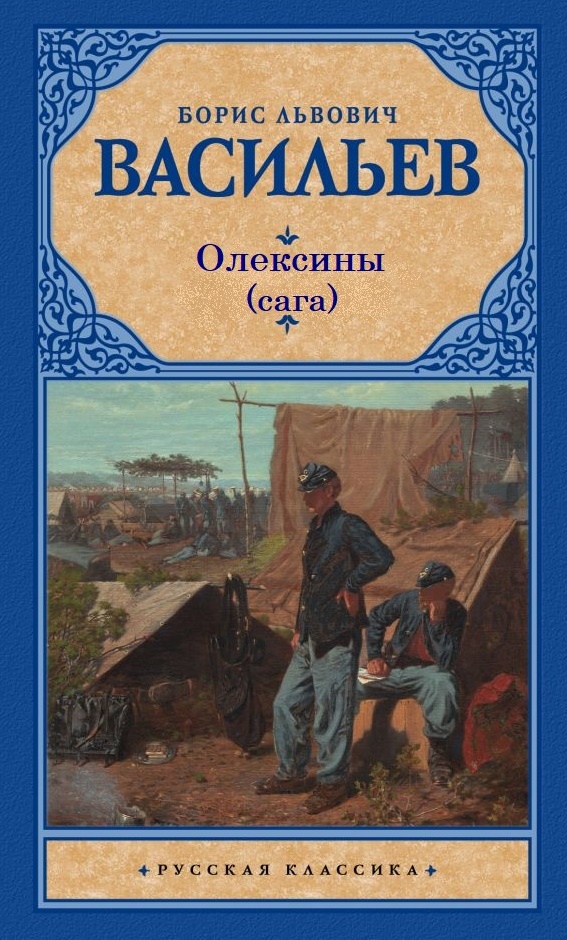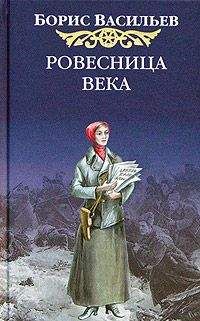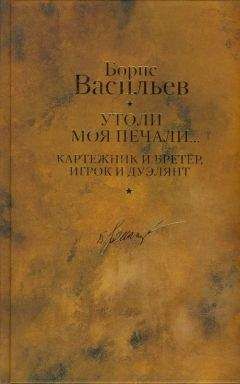— Нет!.. — рявкнул граф.
Это я расслышал и впервые глянул в его глаза. А граф поднял пистолет да и бабахнул считай что навскидку. И меня так по голове садануло, что отлетел я куда-то, вмиг сознание потеряв и в черноту провалившись.
Очнулся в отцовских объятьях. Карету трясло и раскачивало, в голове у меня тоже что-то тряслось и раскачивалось, и боль была такой, будто голову мою расплавленным свинцом залили до краев. Расслышал только бормотание отцовское:
— Бог упас. Бог упас…
…И снова отчалил от ясного берега…
АССО, АССО, ВСЕГДА — АССО!
Май. Ну, скажем, 15-го
Графская пуля лоскут кожи с головы моей снесла. Но череп не пробила, только чиркнула по нему и дальше унеслась, неведомо куда… Череп у меня как у зубра, что в молдавских кодрах мне как-то повстречался. Меня на охоту господарь ясский Дмитрий Мурузи однажды в свои угодья пригласил.
— Только в голову ему не стреляй, Сашка. Пуля от его головы отскакивает, как от каменной стены. И зубр тогда очень сердится. Под левую лопатку целься.
В глаза зверя смотрели когда-нибудь? Да не медведя, не волка, не барса даже. Настоящего зверя, доисторического, в очи которого наш прапращур глядел, дубину в потных руках сжимая? Не через решетку, разумеется.
Иное у них выражение глаз, взгляд иной. Допотопный, лишенный всякого выражения. Ни злобы во взгляде их нет, ни ярости, ни ненависти — ничего нет. Пусто. Завораживающе пусто, взора не оторвешь, всей душою своей ощущая при этом, как в твою, в собственную душу твою ужас вливается, до краев ее заполняя. Потому что глаза их — мертвые только для нас, а для себя, для ледникового своего бесчувствия глаза у них живые. Только для себя и живые, а для всего прочего живого — мертвые.
А обычные звери, мохнатые и теплые, совсем иные. Они и соседи наши, и ровесники, и даже — дальние родственники, потому что Господь человека и зверей для него в одну неделю создал с разницей в один день. И общими чувствами наделил: страхом, болью, злобой, яростью. И на нас они с нашими же чувствами и смотрят, и мы их взгляд понимаем: нам и страшно порою, очень даже страшно, а вот пещерного ужаса перед ними не возникает. Возникает ужас спасительный, а не ужас обреченный.
Значит, зубра не Господь Бог создал, а кто-то другой. И не для нас создал, а — против нас. Не для украшения жизни нашей, а для устрашения ее.
Почему я — вдруг о зубре? Нет, нет, с головою у меня все в порядке, только болит очень. Но все я соображаю и сейчас не заговариваюсь, а вспоминаю. Глаза графа вспоминаю в тот самый миг, когда палец его на курок нажимал.
— Да Бог с тобой, Сашка, — скажете. — Да кто ж на дуэли выраженье глаз противника увидеть может? Разве что сокол поднебесный да горный орел…
А я — видел, хоть и не сокол я поднебесный и не горный орел. Зубром он был у барьера, зубром, господа, взгляд его тому свидетель неоспоримый. И стрелял навскидку, не как все. Из дуэльного пистолета и — навскидку…
Только почему же он промахнулся?.. Нет, не так, не так спросил. ЗАЧЕМ он промахнулся?..
Меня после дуэли быстренько в родовые Опенки отвезли, а затем в Санкт-Петербург доставили. Дня четыре я в нашем в санкт-петербургском доме без сознания провалялся, а чуть в себя стал приходить, снова — в карету. Сквозь боль дикую и сотрясенное сознание свое помню колени матушки, на которых всю дорогу голова моя лежала.
А больше ничего не помню…
А увезли меня потому, что батюшка всеми силами следы заметал, неистово веря в выздоровление мое и беспокоясь о дальнейшей моей карьере. А для этого меня для начала от государевых очей требовалось спрятать подальше, и как можно скорее. И мобилизовать всех добрых знакомых, чтоб словечки свои бормотали кому надо и где надо. И, проделав все это, бригадир мой единственный, родной и любимый, в Новгород ринулся, чтобы договориться о моем переводе в иной полк. А некто, хорошо знающий Государя, посоветовал батюшке, чтобы новый полк тот оказался армейским.
— При надобности можно будет осторожно намекнуть Государю, что сын ваш уже наказан достаточно серьезно. Из гвардии в сермяжную армию перелететь — это, знаете ли…
Еще кто-то усиленно рекомендовал с графом переговорить на предмет моего прощения. Но тут уж родитель мой рассвирепел и рявкнул окончательно:
— Лучше Сибирь!..
Не знаю, как уж там все разворачивалось, а только дуэль нашу осторожненько спустили с вершинки в лощинку, где и оставили до лучших времен. И все обошлось, только я из гвардейца стал армейцем и зачислен был в поручики Псковского полка. И когда я, малость самую придя в себя, узнал об этом, то стыдом обжегся и сразу же матушке начистоту все выложил:
— Долг. Семь тысяч подполковнику Затусскому и пять сотен — Мишке.
— Сделаю, голубчик, все сделаю, не терзай себя. Сегодня же человека пошлю.
И я сразу успокоился, потому что матушка никогда меня не обманывала. Ни разу в жизни.
…Надо непременно кому-то верить с самого маленького, что ли, детства. Верить без всяких клятв и слов, верить всем сердцем и всею душою своею в жизни своей практической. Скажете — отцу, мол, и матушке вместе? Хорошо бы так, да не получается. Дитя так устроено, что раздваиваться еще не умеет. Может быть, поэтому и дитя? И батюшка может стать тем камнем, на который потом совесть ваша всю жизнь опираться будет, и матушка, и дедушка, допустим, или там бабка. Но кто-то один. Двоих детская душа вместить не способна. Мала она еще очень.
У меня основой этой матушка оказалась. Может быть, потому, что батюшки перед глазами не было. Воевал батюшка.
Только голова моя не желала успокаиваться. Болела, трещала, мутилась. И мысли мои бились в ней и тоже болели, трещали, мутились и рвались на части.
— Ты о приятном думай, Сашенька. Гони, из сил последних гони черноту из головы.
О приятном?.. А у меня — дуэль перед глазами. И — зубр с «Лепажем» в руке. Но я поднатужился…
…и вспомнил, как хохотал Пушкин, когда я ему однажды про матушкино предупреждение рассказал.
— Да тебе нужно не ладонью лоб загораживать, а конское ведро на голову надевать, Сашка! У тебя же на физиономии все написано!..
…Ох, как болит голова… Каждый толчок сердца болью отзывается. Нет, уходить надо из больного этого мира, уходить…
… — Не стискивай шпагу, Сашка, не сабля. Пальцами ее держать надо, только тогда она продолжением руки твоей станет. Аппель! Готов к мулине? Тогда держись.
Ах, как играла шпага в руке Александра Сергеевича! Трижды сверкнула в воздухе, кругом прошла перед глазами, и… и мой клинок со звоном отлетел в угол.
— Сашка, ты же ручищами своими подковы гнешь, а шпаги удержать не в силах. Пальцы у тебя слабые.
— Слабые?.. — обиделся я тогда. — Да я пальцами волошские орехи давлю дамам в диковинку.
Улыбнулся Александр Сергеевич:
— Принеси-ка трость мою.
Пошел я за тростью вразвалочку, со всей гвардейской небрежностью. Изящно этак поднял ее и… И чуть не выронил. От неподготовленности, что ли. Такой неожиданно тяжелой она оказалась. Ну с полпуда, ей-Богу.
А Пушкин от хохота изнемогает. Он очень смешлив был, когда в добром расположении.
— Она тяжелого железа, Сашка, — пояснил он, с хохотом своим управившись. — Мне ее по заказу отковали.
— Зачем?
— Зачем? Затем, чтобы пистолет в руке не дрожал. Не все же гвардейцами рождаются.
Взял у меня трость и завертел ее мельницей меж пальцев правой руки. Ну будто петербургский фат перед гризетками. А вздохнул совсем невесело:
— Noblesse oblige [18], Александр. Noblesse oblige.
И в миг единый переменился. Глаза стали колючими, неприветливыми какими-то. Толстые губы оттопырились еще больше, даже брови будто друг на друга наехали.
— Что это с тобой, Александр Сергеевич?
— Уйди.
Я тогда еще не привык к тому, сколь быстро Пушкин переходит из одного настроения в другое, казалось бы ни с того ни с сего. Вдруг это с ним случалось, мгновенный переход, будто с аллюра на аллюр. То был — сама улыбка, само остроумие, сама любовь к окружающим. То вдруг — мрачный демон, резкий, а подчас и невыносимо резкий, колючий весь, язвительный. То молчаливым и задумчивым внезапно станет средь дружеской попойки: хоть кричи ему — не откликнется. То — и опять вдруг, будто из себя самого фонтаном взрываясь, — озорной, веселый, живой, остроумный. И все — вдруг, вдруг…