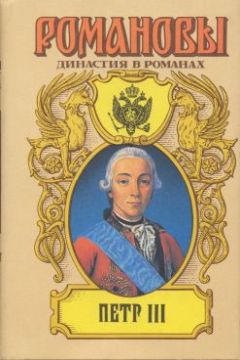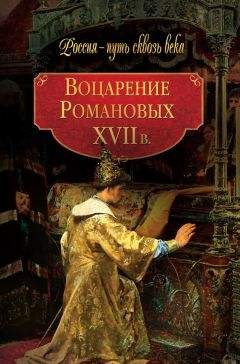– Не переусердствовать бы! – вскричал я в ужасе. – Кто поверит, что сей ветхий старец столь страстный охотник до женского пола?!
– Не твоя забота, – сказал камергер – Видно, ты плохо ещё знаешь людей, если во всём непременно хочешь правдоподобия. Запомни же, когда речь идёт о людях, знаменитых властью, или должностью, или богатствами, или подвигами, толпа скорее поверит неправдоподобному, нежели правдоподобному, привыкнув в людях сих находить лишь неправдоподобное… Не беспокойся, мы представим дело таким образом, будто верные архиерею люди пытались сожечь порочащие его бумаги. И если не опрокинем на сей раз патриарха, то столь воззлим государя, что новой атаки Дмитрию уже не выдержать. Коли сам в гроб не соберётся, мы ему пособим… И прочистим Синод, как в апреле, когда повалили тайного советника Львова. Уволим со службы ещё дюжину-другую православных смутьянов и заменим их приказными чинами – те будут сговорчивее. Уже и указ заготовлен для государя, на днях будет подписан и обнародован: кто не из дворян, а в службе без подозрения, того будут отныне производить в секретари. Важная, брат, победа, и означит новую совсем эпоху…
Я, дворянин, слушал речь заговорщика с одобрительной миною на лице. О, как я ненавидел скорпионов, ядовитой слюною усыпляющих свои жертвы!
– Тебе в Синоде делать уже нечего, – заключил камергер. – Перейдёшь в царскую охрану, где жалованье втрое выше против нынешнего твоего, примерно столько, сколько плачивали офицерам лейб-кампании!
– Может, ещё не время уходить из Синода? – Я был ошарашен бесцеремонностью, с которой распоряжались моей судьбою.
– События закручиваются так, что всего полезней тебя приставить сейчас к государю. Причём от партии так называемых русских патриотов, в числе которых, как ты догадываешься, состоят и наши братья. Боевой офицер, служивший в Синоде, – вне подозрений. Каждый станет рекомендоваться тебе в дружбу, сие нам и надобно…
Домой я вернулся поздно, все спали. Впустив меня, слуга запер двери на задвижку, зевнул и, перекрестя рот, повалился на лавку, застланную старым армяком.
Я зажёг свечу в зале. Спрыгнула с кресла кошка, сбросив на пол маменькино рукоделие. На столе лежал номер «Санкт-Петербургских ведомостей». Я взял крошечные листочки с печатью нестройной, сколь и душа моя. Прыгали из строк буквицы. Я прочёл: «Сим объявляется, чтоб около Санкт-Петербурга в запрещённых местах, а особливо в городе, на Васильевском острову, около галерной гавани, на Лахте и в Екатерингофе в весеннее и летнее время никаких диких птиц под штрафом не ловили и не стреляли, хотя бы они о стрельбе позволительные билеты имели».
Смысл слов, слепленных друг с другом кое-как, лишь с трудом доходил до сознания. «Боже, – подумал я, – как ещё возможна жизнь за пределами тайной, которая всё определяет!» И ещё подумал, что все мы, обыватели, обречены. Живём своею особной жизнью, строим планы, никак не ведая, что и планы наши, и самая жизнь зиждятся на песке…
Минула неделя. Неделя-пытка. Неделя-вечность. Позади было витийственное поздравление обер-прокурора, которое он, запинаясь и покашливая, изволил прочитать по бумажке, поданной надворным советником Шварцем, и тут же забыл и причину сборища, и самую фамилию мою. Позади было шумное угощение сослуживцев, гордо называвших себя в хмелю столосидами, сукноедами, стулотёрами, чернильными носами, крючкотворами, бумажными душами и клопами номоканонскими. Позади был пожар, о котором говорили повсюду. Позади было моё новое назначение, новый мундир, скроенный и сшитый за Синим мостом у портного Гаузена. Позади были лихорадочные приуготовления матери и сестры к отъезду в деревню, хлопоты по покупке коляски и новой лошади взамен павшей, и многое прочее было позади, так что я чувствовал себя усталым и постаревшим.
На субботу в полдень был назначен отъезд, и Лиза была извещена о том запискою, посланной с моим человеком, но Лиза не пришла проститься, человек принёс от неё всего только небольшое письмецо к матери.
– Вот каковы здешние нравы, – сказала моя маменька со слезами, нацепив окуляры. – Как переменилась Лиза в жестокосердном и развратном Петербурге! Да могла ли я вообразить, что дочери почти безразлична родная мать, в одиночестве и бедности влачащая дни в убогой деревеньке! Ни единого изустного словца, а всё только клочок мёртвой бумаги!
Я отвечал, что, возможно, Лиза нездорова, что ей мука – видеть отъезжающих в родные домы, тогда как она принуждена остаться, и что она вовсе не из таковых людей, которые слепо следуют новым модам бесчувственности.
Не ведали мы, что в тот день скончалась добрая старушка, приютившая Лизу, мать Петра Петровича, и Лиза не посмела омрачить отъезд печальною вестью и даже сокрыла то от нашего слуги.
Томимый недобрыми предчувствиями, я старался подольше побыть с маменькой и сестрицею Варварой, так что и поехал с ними до сельца Саблиновки, где была ямская, положив, что вернусь в город к вечеру почтовой каретою. Тут поили лошадей, тут мы простились, и я горячо расцеловал дорогих мне людей, желая им благополучия и надеясь на скорую с ними встречу.
День был, помнится, светлый и тёплый. Звенели жаворонки. Возок и коляска пересекли поле и исчезли за лесом.
Предупредив смотрителя, степенного старичка из отставных младшего чина, я отправился погулять, сетуя, что паки один и нет мне даже надежды на новое свидание с Лизой.
Занятый думами, шёл и шёл я наизволок мимо нив и пажитей по дороге, синей в тени от поднявшегося стеною жита. Из придорожных трав постреливали кузнечики, мелькали васильки и розовые колпачки вьюнка. Но вот дворище за крытым придорожным крестом открылось – гумно, покосившийся овин, подле которого бодались два серых козлёнка – сходились, натопырясь, и чиркали проклюнувшимися рожками.
«Всё живое играет, ищет пищу и радость, – подумал я. – Так коротко время ликования и избытка силы, и столько кругом нечисти, замышляющей лишить человека и сего малого подаяния и надеть на него новые и уже вечные оковы!..»
Перед ветхой избою трое малых детей смирно сидели на бревне, следя за мною глазами, а рядом, опираясь о суковатую палку, стоял согбенный старец в зипуне.
– Где люди-то? – спросил я. – Что за пустынь округ?
– На барщине, ваша милость, – отвечал старик, снимая шапку и кланяясь. – Така забота – лови, пока погода. Взял укос – не страшен мороз, взял другой – и вовсе живой.
Голос у старика был ясен. Глаза глядели смело. «Затейник!»
– Чьи будете?
– Графские, поповские, царские, саблиновские.
Старик охотно говорил со мною. Да и мне хотелось отвлечься.
– Как живётся?
– Жизнь тяжела – все дела. Смерть подступит когда – вот беда!
– А что ж, у мужиков и других недругов нет, окромя смерти? – приветливо спросил я.
– Отчего же нет? – Старик обнажил в улыбке беззубый рот. – Кто же пищит, пока сам в брюхо тащит? Первый недруг – неурод, опошний – когда сапог жмёт. Оттого без сапог ходим, спокойней вроде. Не выносит барин топот и ропот. А не угодить – иначе не жить. Барин доволен – вся наша воля!
«Бог даёт бедным порою богатое сердце», – подумал я.
– А знаешь ли, не только барин тебе в острастку. Есть другие, которые всех бар в бараний рог скрутят да и мужика совсем на барщине примучат!
Старик озадачился моим мрачным раздумьем. Он меня, конечно, не понял или понял превратно.
– Окромя кошки для мышки зверя нет, – наконец осторожно отозвался он. – Если б и сверху наши, никакой ворог не страшен! Как про козла-то бают? Ноне чёрт с рогами, завтра похлёбка с бобами!
– Позабавил ты меня разговором, – сказал я. – Вот тебе гривенник на гостинцы внукам!
– Не берём, – низко поклонился старик. – Премного благодарствуем, пока здравствуем. Лучше в кровь сбить ноги, чем алтын найти на дороге. Узнают про такое горе, до смерти запорют!
Мне стало жаль старика и внуков его, зорко следивших за моими руками. Я бросил им монету, но они, приметив, где она упала, не двинулись с места.
– Богаче станешь, счастливей не будешь, – сказал старик. – Вы уж простите мя, грешного. Не думая, как жить, и жить-то не умеем. А не умея, и думать не думаем. Ведь то и трудно, что хорошо, а что нехорошо, то ещё труднее!..
Сами ноги потащили меня за посельце к лесу. Досада точила: и я не вполне понял старика, как если бы разговаривали мы совсем на разных языках.
Первый же опыт преподания правды простолюдину выявил свою полную непригодность. Враждебность к себе почуял я даже от безобиднейшего старца и усумнился, кому он прежде поверит, мне ли, его защитнику, или господину Хольбергу, злейшему ворогу, вооружённому наукой околпачения и обмана? И как только я признался себе, что господин Хольберг непременно восторжествует, так и страшно сделалось.
За горькими выводами раздумий не приметил я, как забрался под своды соснового бора, – зычные голоса услыхал я, стук топоров и ширканье пил. Артель порубщиков трудилась среди поверженных великанов.