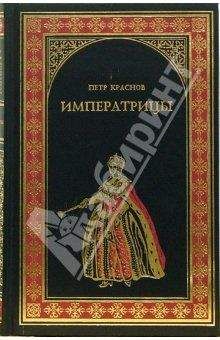– Нет… Нет, Миронов, что ты?.. – растерянно сказал Мирович. – Шпагу я сам… Коменданту… Как же так?.. Солдат?.. Ты солдат?.. Я сам… Сам…
Миронов его не слушал. Он отцепил шпагу и понёс её к комендантскому дому.
Как только в комендантском доме узнали, что безымянный колодник убит, – часовые, приставленные Мировичем к полковнику Бередникову, освободили его, тот привёл себя в порядок, надел кафтан и послал в форштадт к командиру Смоленского полка, полковнику Римскому–Корсакову за сикурсом.[81]
Было раннее летнее утро. С голубого неба солнце золотые лучи на землю посылало. Туман, клубясь кверху, поднимался, и становилось светло и радостно. В этом утреннем свете серокаменные и кирпичные постройки крепости казались не такими безотрадными. На ветках в берёзовой аллее бриллиантами загорались мокрые листья деревьев. Там весело и радостно пели и гомонили птицы.
Через канал на лодках подходил сикурс. Римский–Корсаков[82] с секунд–майором Кудрявым, поручиком Васильевым и прапорщиком Жегловым с двадцатью тремя рядовыми смоленцами спешили к комендантскому дому.
Они пошли с Бередниковым на крепостной двор. Последние остатки ночного тумана съедались солнцем. Косые золотые лучи ласково скользили по кровати, на которой лежал на спине окровавленный покойник, накрытый синей офицерской епанчой. Сзади кровати толпою стояли, понурив головы, вооружённые люди смоленского караула. От этой толпы отделился невысокий офицер без шпаги с бледным лицом и пошёл нетвёрдым шагом к командиру полка. Остановившись в четырёх шагах от него, как для рапорта, он резким движением сорвал с головы шапку и сказал ломающимся хриплым голосом:
– Быть может, вы не видели живого Императора, нашего Иоанна Антоновича, – смотрите ныне на мёртвого… Он уже не телом, но духом всем кланяется.
Бередников, с кровавым шрамом на голове, злой и раздражённый, бросился на Мировича, сорвал с него офицерский знак и крикнул караулу:
– Под стражу его!.. В караул!..
Солдаты безмолвно сомкнулись вокруг офицера и повели его в кордегардию.
Началось следствие.
XIX
Императрица Екатерина Алексеевна вторую неделю путешествовала по Лифляндии. Как не походило это путешествие на те кочевья, которые совершала она с покойной Императрицей Елизаветой Петровной по югу России и Малороссии. Там были гомон и шум больших становищ, спаньё в шатрах на матрацах, положенных на землю, свежий воздух утра, пение птиц, долгие сборы, неудобные телеги с теми же матрацами и подушками, множество людей кругом, дымы костров, шумные обеды на зелёной мураве, песни песельников, ржанье лошадей и природа кругом.
По Лифляндии Императрица ехала в удобной венской карете, на висячих рессорах, от именья к именью, от замка к замку. Иным постройкам было более двухсот лет. Каменные дома хранили уют целых поколений. Раскрывались тяжёлые ворота, и за ними были прекрасные парки с тенистыми аллеями столетних лип и дубов, богатые цветники пёстрым ковром расстилались подле входа. Императрицу после торжественной встречи вели в ароматную прохладу комнат, где всё было приготовлено для её отдыха и работы. На мызе Большой штроп Фитингофа,[83] где был ростах, Императрице показывали образцовое молочное хозяйство и сыроваренный завод. В громадном мызном стодоле Государыня любовалась тремястами красно–бурыми – все, как одна, – коровами ливонской породы, стоявшими на свежей соломе. В Риге, девятого июля, Государыню ожидала торжественная встреча… Генерал–губернатор Броун,[84] епископ Псковской и Рижский Иннокентий, местное рыцарство и генералитет выстроились на крыльце отведённого Государыне дома. Она прибыла в Ригу в девять часов утра и, милостиво побеседовав с встречавшими её людьми, прошла во внутренние покои. Там на столе была положена только что прибывшая с курьером из Петербурга почта. Сверх всего, поверх свежих номеров «Ведомостей» лежал небольшой пакет, припечатанный пятью сургучными печатями, на средней три голубиных пера. Императрица кинжалом с рукояткой из ноги оленя вскрыла пакет и углубилась в чтение. Ничто не выдало её волнения, и подававший ей пакеты, состоявший при ней в качестве секретаря во время поездки генерал Пётр Иванович Панин ничего не мог заметить на её лице. Похлопывая ножом по пакету, Государыня повернулась к Панину и сказала:
– Сядь, Пётр Иванович… В ногах, люди сказывают, правды нет. Скажи мне… – Она помолчала, как бы затрудняясь, как начать, и продолжала: – Скажи мне… Что, это у тебя был адъютантом поручик Мирович?..
– Как же, Ваше Величество, недолгое время был такой. Я был принуждён его прогнать.
– Что же – он нехороший был человек?..
– Он – лжец, Ваше Величество.
– Лжец?..
– Отчаянный лжец… Бесстыжий человек и великий трус. Сумасброден не в меру и не по чину обидчив.
– Вот как! Что же ты такого взял?.. Ты не знал его раньше?..
– Пожалел его. Страдал и разорён был за измену деда… Дед был при Орлике, а Орлик был при Мазепе.
– Ах, вот что…
– Чем, Ваше Величество, маленький Мирович заслужил внимание Вашего Величества, что вы его вдруг вспомнили?..
– Я не вспомнила о нём, ибо никогда про него не слыхала раньше и самого его тем паче не видала. Ты знаешь меня – я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, ушинадувателей не держу, переносчиков не люблю и сплетнейскладчиков, кои людей вестьми же часто выдуманными приводят в несогласие, терпеть не могу… Но… Тут уже не сплетни… Тут тяжкое преступление и потрясение основ государства и благополучия российского. На мне лежит долг Государыни… Пока ничего больше… Я хотела только тебя спросить самого, как ты, оказывается, того Мировича знавал… Можешь пока идти, остальную почту после разберём, я должна ехать с Броуном осматривать гидравлические работы на Двине.
Письмо, расстроившее Государыню и побудившее её говорить о Мировиче, было первое поспешное донесение Никиты Ивановича Панина о том, что офицеры Мирович и Ушаков составили заговор и хотели, освободив из Шлиссельбургской крепости безымянного колодника, возводить его на престол как Императора Иоанна Антоновича. В донесении было ещё сказано, что Мирович с командою при пушке напал на караул при безымянном колоднике и что Власьев и Чекин в силу данной им инструкции закололи колодника. Донесение было краткое, составленное по словесному докладу, и было прописано, что вслед едет полковник Кашкин и везёт подробные данные о происшествии.
Внимательно, удивив всех своими познаниями в гидрографии, Императрица осматривала дамбы, задавала вопросы инженерам, потом поехала на банкет лифляндского дворянства. Она была ласкова ко всем, много расспрашивала о приближённой фрейлине правительницы Анны Леопольдовны, Юлии Менгден, которая была заточена недалеко от Риги и умерла в заточении, она прерывала рассказ восклицаниями сожаления и негодования:
– C'est formidable!.. Cela fait fremir!..[85]
Она осталась в Риге. На другой день, когда полковник Кашкин привёз ей подробное, но всё ещё неверное донесение, она закрыла двери своего кабинета и писала то по–русски, то по–французски письмо Никите Ивановичу Панину, которое тот же Кашкин должен был немедленно везти в Петербург.
«Никита Иванович, – писала Императрица. – Не могу я довольно вас благодарить за разумныя и усердныя ко мне и отечеству меры, которые вы взяли по Шлюссельбургской гистории».
Она продолжала по–французски:
«La Providence m'a donne un signe bien evident de sa grace en tournant cette enterprise de la facon dont elle est finie…
Le jour de mon depart de Petersbourg une pauvre femme avait trouve dans la me une lettre de main contrefaite ou il en etait parle; cette lettre fut remise au Prince Wesemski et elle est chez lui. Il faudra questionner ces officiers, si ce sont eux, qui l'ont ecrit et repandue. Je crains que le mal n'aye d'autre suite encore, car Ton dit cetУшаковlie avec nombre de petits gens de la Cour. Enfin il faut s'en remettre au soin du bon Dieu, qui voudra bien decouvrir, je n'ose en douter, toute cette horrible attentat…[86]
Вспомните так же врания того офицера, что Соловьёв привёл, да с Великаго поста более двенадцати подобных было и всё о той же материи. Велите, пожалуй, разсмотреть не оны ли тому притчины были…
Хотя в сём письме я к вам с крайнею откровенностью всё то пишу, что в голову пришло, но не думайте, чтобы я страху предалась. Я сие дело не более уважаю, как оно в самом существе есть, сиречь дешператной и безразсудный coup,[87] однакожь надобно до фундамента знать, сколь далеко дурачество распространилось, дабы, есть–ли возможно, разом присечь и тем избавить от нещастия невинных простяков.
Радуюсь, что сын мой здоров, желаю и вам здравствовать.
Екатерина.
Из Риги 10 ч. июля 1764.
Стерегите, чтоб Мирович и Ушаков себе не умертвили».
Императрица сама вложила письмо в конверт и опечатала его своею печатью. Потом взяла ещё лист и написала на нём размашистым почерком:
«Указ генерал–поручику Веймарну.[88] По получению сего немедленно ехать вам в город Слюсельбург и тамо произвесть следствие над некоторыми бунтовщиками, о которых дано будет вам известие от нашего тайнаго действительнаго советника Панина, у котораго оное дело, и потому он как вам все наставления дать, так и вы всего что касаться будет от него требовать можете.