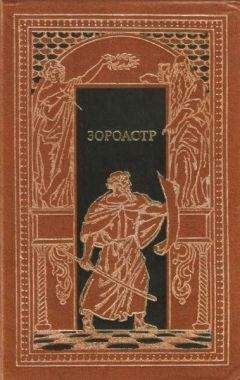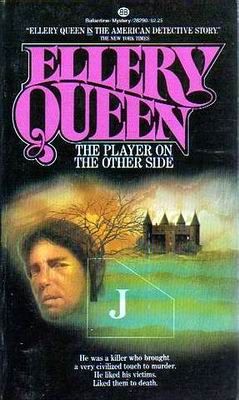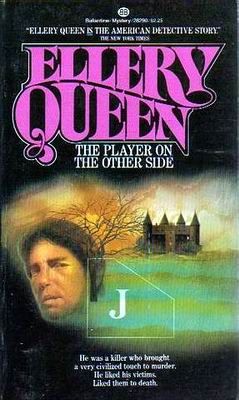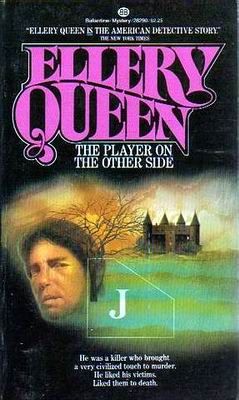Трогательно звучала эта просьба, но она была так часто прерываема угрозами и проклятиями, что многие ее даже вовсе и не слыхали.
Но вдруг молодая египтянка громко вскрикнула; одна из грубых евреек дернула у нее из уха серьгу, имевшую вид золотой змеи; в это время Мирьям и Ефрем близко подошли к берегу.
Этот крик испуга больно отозвался в сердце юноши, он побледнел, так как по голосу узнал Казану.
Трупы же у ее ног были — ее кормилицы и жены верховного жреца Бая.
Ефрем, вне себя от ужаса, мигом протолкался сквозь толпу и, став подле Казаны, закричал:
— Назад! горе тому, кто ее тронет.
Но уже одна еврейка, жена обжигальщика кирпичей, у которой во время пути умер ребенок в страшных мучениях, успела вынуть у Казаны из-за пояса кинжал и с криком: «Это тебе за моего маленького Руфа!» всадила его ей в спину. Женщина уже подняла окровавленное оружие, чтобы нанести второй удар, Ефрем бросился между нею и ее жертвою и отнял у женщины кинжал. Затем, он стал около раненой и громко закричал:
— Кто дотронется до нее, женщины, кровь той смешается вместе с кровью этой египтянки.
Затем, он взял раненую на руки и понес ее к Мирьям.
Еврейки сначала безмолвно смотрели вслед Ефрему, затем закричали:
— Месть, месть! Мы нашли эту женщину и эта добыча принадлежит нам. Как смеет Ефрем называть нас разбойницами и убийцами. Раз, что следует пролить египетскую кровь, то запрещать этого нельзя! — Господь Бог не пощадил наших врагов и мы не будем их щадить! — На Ефрема! Отнимем у него эту девушку!
Но юноша не обращал внимания на эти крики ярости, пока не положил головы Казаны на колени Мирьям, усевшейся на ближнем холму.
Когда свирепая толпа мужчин и женщин близко подступила к нему, он снова махнул кинжалом и воскликнул:
— Нельзя! повторяю вам еще раз. Кто тут есть из племени Ефремова и Иудина, подойдите ко мне и к Мирьям, супруге вашего вождя! Вот так, братья; горе тому, кто тронет египтянку. Вы хотите мести? Разве это месть, убить беззащитную женщину? Вам нужны ее драгоценности? Берите их, я еще и от себя прибавлю, если вы оставите жену Гура позаботиться о несчастной умирающей.
С этими словами он наклонился над Казаной и снял с нее оставшиеся у нее кольца и другие украшения и бросил их в толпу. Затем он снял с руки и свой золотой наручник и, подняв его вверх, закричал:
— Вот обещанная прибавка! Если вы оставите в покое Мирьям, то получите золото и можете разделить его между собою, — а если по-прежнему станете требовать мести и крови, то драгоценность останется у меня.
Эти слова произвели желаемое действие; рассвирепевшие женщины поочередно смотрели, то на золотую вещь, то на красивого юношу, а мужчины из колена Ефремова и Иудина, столпившиеся около Ефрема, смотрели вопросительно друг на друга; наконец, жена одного чужестранного торговца воскликнула:
— Дайте-ка золото сюда, тогда мы оставим ему его окровавленную возлюбленную.
К этому решению присоединились и другие, и, несмотря на то, что жена обжигальщика кирпичей, как мстительница за смерть своего ребенка, думала совершить богоугодное дело, убив египтянку, и теперь все настаивала на смерти Казаны, но эту кровожадную еврейку оттеснили от Ефрема и она снова отправилась на берег — искать другой добычи.
Во время этих бурных переговоров Мирьям осмотрела и перевязала рану Казаны.
Кинжал, подаренный в шутку принцем Синтахом своей красивой возлюбленной, только чтобы она не ехала безоружной на войну, нанес ей рану под плечом и кровь лилась так обильно, что можно было опасаться за жизнь несчастной.
Однако, Казана не умерла; ее перенесли в палатку Нуна.
Старый вождь племени, только что собрал пастухов и юношей, созванных Ефремом, чтобы освободить Осию, раздавал им оружие и обещал к ним присоединиться, как только они выступят в путь.
Как Казана была привязана к старому Нуну, точно также и он давно знал хорошенькую дочь Горнехта и любил ее от всего сердца.
Казана, встречая старика, всегда дружески кланялась ему, а тот обыкновенно приветствовал ее словами: «Да благословит тебя Бог, дитя мое»! или: «Как приятно старику видеть такую цветущую молодость»!
Несколько лет тому назад, — она еще была ребенком, — он прислал ей ягненка, с прелестною белою шерстью и, после того, променял ее отцу, на зерновой хлеб, его имения и скот, который сам вырастил; все, что Осия рассказывал о Казане, еще более усилило к ней расположение старика.
Он считал ее самою лучшею девушкою в Танисе и, будь она еврейского происхождения, Нун не задумался бы женить на ней своего сына.
Теперь же, увидя свою любимицу в таком ужасном положении, Нун почувствовал к ней сильную жалость, так что даже слезы выступили у него на глазах, а голос дрожал, когда он, приветствуя Казану, увидел окровавленную повязку у ней на плече.
После того, как раненую уложили в постель, Нун предоставил свой ящик с лекарствами в распоряжение сведущей в лечении пророчицы; Мирьям попросила мужчин выйти из палатки и оставить ее одну с больной; когда же жена Гура позвала их, то раненая была вновь перевязана и ей дано было подкрепляющее лекарство.
Казана лежала на белоснежном белье, с гладко причесанными волосами, хотя еще и слипавшимися от присохшей к ним крови, и походила скорее на ребенка, чем на взрослую женщину.
Она дышала тяжело и на ее губах и щеках не показывалось ни кровинки, и только когда молодая женщина во второй раз выпила питье, приготовленное ей Мирьям, то открыла глаза.
У ног ее постели стоял старик со своим внуком; первый едва удерживал слезы.
Уверенность Ефрема в том, что Казана — дурная женщина и изменница, все время не покидала его; однако, он не сказал никому ни слова о том, что видел и слышал у ее палатки.
Для Нуна же она не переставала быть все тем же «милым ребенком», каким он ее знал в детстве, и потому, когда больная открыла глаза, старик улыбнулся ей с отеческою нежностью. Она тотчас же узнала и Нуна и его внука, и хотела было кивнуть им головою, но сильная слабость помешала ей. Однако, ее выразительное лицо доказывало и удивление и радость, а когда Мирьям в третий раз поднесла ей лекарство, то больная, видя озабоченные лица мужчин, собрала все свои силы и сказала:
— Рана очень болит!.. Неужели я умру?
Тогда окружающие вопросительно посмотрели друг на друга и, казалось, охотно скрыли бы от нее ужасную истину, но больная продолжала:
— О, скажите мне… скажите всю правду.
Мирьям, стоявшая около ее постели, раньше других собралась с мужеством и отвечала:
— Да, бедное молодое создание, рана очень глубока, но насколько у меня хватит искусства, я постараюсь поддержать твою жизнь.
Эти слова звучали добротою и состраданием, но, казалось, грудной голос пророчицы причинял боль Казане и рот египтянки судорожно исказился во время речи Мирьям и, когда она кончила, то крупные слезы покатились по лицу страдалицы.
Несколько минут длилось молчание; но вот Казана открыла глаза и, бросив утомленный взор на Мирьям, спросила:
— Ты женщина, а занимаешься искусством врача?
На что та отвечала:
— Господь Бог повелел мне заботиться о всех страждущих моего народа.
Глаза больной заблестели, и она заговорила громче чем прежде, к крайнему удивлению окружающих.
— Ты — Мирьям, та самая женщина, которая призвала к себе Осию?
Пророчица совершенно спокойно отвечала:
— Да.
Казана продолжала:
— У тебя своеобразная властная красота; ты многое можешь сделать! Он послушался твоего зова, а ты — ты вышла замуж за другого?
Пророчица опять ответила совершенно серьезно и спокойно:
— Да, это было так.
Умирающая закрыла глаза и на ее устах появилась какая-то странная улыбка, но ненадолго. Вскоре умирающая стала сильно волноваться. У ней стали дрожать пальцы ее маленьких рук, губы, даже веки, а на лбу появились складки, точно она обдумывала что-то трудное и серьезное.
Наконец, больная высказала, что ее так сильно тревожило:
— Вот там — Ефрем, который ему был все равно что сын, а ты, старик Нун — его отец, которого он так любит. Вы все будете жить, а я, я… О, как тяжело оставлять мир… Анувис поведет меня перед суд Озириса… Мое сердце станут взвешивать.
Тут она в ужасе сжала руки. Но потом, собрав силы, снова заговорила; но Мирьям запретила ей, так как это могло ускорить ее конец.
Страдалица смерила взором высокую фигуру Мирьям и закричала так громко, как только хватило у ней силы:
— Ты хочешь воспретить мне сделать то, что я должна? Ты?!
В этом вопросе звучала гордость; затем она продолжала тихо, как бы про себя:
— Так я не могу уйти из этого мира, нет! Как все это случилось, зачем я все… все… Я должна покаяться и потому не следует жаловаться; пусть «он» узнает, как это все случилось. О, Нун, добрый, старый Нун, помнишь, как ты подарил мне ягненка, когда я была маленькая? Как я любила это ласковое животное. И ты, Ефрем, мой мальчик, вам я все скажу, все доверю…