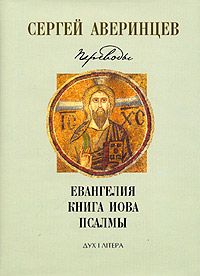…Много занимались делами.
Прибыли наконец выписанные из Англии молотилки и семена. Многие приезжали смотреть на них. Приехал и Иван Таркайло. Бегал глазами, разглядывая.
— Что, только свое молотить будете?
— И крестьянское. За небольшую плату. Выпишу еще, — может, более зажиточные купят, а победнее пускай берут, скажем, вдесятером.
— А бабы что зимой будут делать?
— Пусть ткут полотно для продажи. Пусть учатся делать сарпинку, миткали. Промысел будет. Скоро появятся свои агрономы.
Таркайло не выдержал:
— А не боитесь?
— Чего?
— Появились какие-то люди. Недавно за эти реформы Арсена Стрибаговича сожгли. Сына его подстрелили. Все дымом пошло: и постройки, и скирды, и завод… Сын едва выздоровел.
— Это вы про «Ку-гу»? — спросил Алесь. — Куга — она и есть куга болотная. Куда ветер, туда и она гнется. А попробуют на меня вякнуть — выловлю всех.
— Да я разве что говорю? — отступил Таркайло. — Я и сам этих выродков ненавижу. Сам бы все это завел, да побаиваюсь. Я не вы. Сожгут. Недавно встретили на дороге моего лакея Петра да записку передали.
И Таркайло подал Алесю клочок бумаги. В левом верхнем углу был грубо нарисован глаз филина с пером-бровью. Ниже шли корявые буквы:
«Видим! Пойдешь к Стрибаговичам, возьмешь на лесопилку по вольному найму людей — гроб… Сегодня сделано — завтра получишь веревку, послезавтра не повесишься — через день сжигаем твое чучело на Красной горе или на другой высокой. Увидишь, не исчезнешь — жди сову. И другим передай, будет им то же…»
В конце был нарисован крест. Алесь улыбнулся.
— Дайте мне.
— Что вы! — тихо сказал Иван. — Никогда!
Дрожащими пальцами спрятал бумажку.
— Убьют. Было уже так. Никто не жалуется. У них, говорят, в суде рука. И вам не советую, если когда получите…
— Ну, смотрите. А получить-то я должен первый. У меня везде по вольному найму люди. Даже из моих крепостных.
— Я и говорю — берегитесь… И молчите… Молчите… Христом прошу…
Уехал. Алесь удивленно раздумывал. Зачем это ему было? Помощи на всякий случай искал? Так поможем, если понадобится.
И Алесь махнул рукой на случай с Таркайлом. «Ку-га», «шмуга» — чепуха какая!
…В августе неизвестные всадники вылетели из пущи на витахмовскую свекольную плантацию. Тридцать человек с ружьями. Нижняя часть лица у каждого была закрыта белым муслином.
На этой десятине первый год росла гордость Алеся — добытый с огромными трудностями, едва не воровством и взяткой, сорт свеклы «Золотая» с количеством сахара до двадцати восьми процентов, против обычных шестнадцати — двадцати. Хозяйство, где росла «Золотая», принадлежало барону Мухвицу, генеральному директору товарищества «Минерва», и было под Виницией. Семена Герман Мухвиц раздобыл где-то в Австрии (он был еще и членом административного совета Варшавско-Венской железной дороги), раздобыл тоже почти воровством и очень ими дорожил. Человека, который дал Алесю семена, выгнали со службы, и пришлось взять его на свое содержание.
Вокруг «Золотой» ходили чуть не на цыпочках. Платили мужикам и бабам вдвойне за обработку каждого ряда. Алесь надеялся, что через год треть плантаций будет засеяна своими «золотыми» семенами.
И тут случилось.
Под бешеное «ку-га» неизвестные выстрелами отогнали рабочих и начали гарцевать по десятине, выбивая ее копытами, как ток. Из леса вылетело около двадцати подвод, они расползлись по плантации и начали поливать из бочек сочные зеленые ряды густосоленой рапой.
Люди побежали в Витахмо за помощью. А пока на плантацию помчался Андрей Похвист, эконом Студеного Яра, случайно оказавшийся в Витахмо. Помчался один — спасать.
Прибежал и увидел шабаш уничтожения: струи рапы, всадников, что неслись по полю, выкрики, сочный хруст ботвы, выстрелы в воздух.
Эконома побили и прогнали с плантации.
— Передай: будет вводить новшества — прирежем.
Через час, увидев, как со стороны Витахмо бегут с ружьями люди, неизвестные обрезали постромки и, оставив новые бочки вместе с телегами, припустили в пущу.
Люди ринулись было за ними, но оттуда рванул залп, и преследовать дальше побоялись.
Поле было смешано с грязью. Алесь уже назавтра увидел, что рапа сделала свое дело: ботва, там, где она уцелела, была как сморщенный, сухой табак.
Он приказал выкопать более уцелевшие корни, перенести в оранжерею, приказал щедро поливать поле водой: а может? — но средства бороться с этим у агрономов не было, никто не сеет свеклу на солончаке, с неба не идут соленые дожди. Спасти удалось не больше трех десятков корней.
«Золотая» погибла.
Похвист рвал на себе волосы.
— За что?
— За то, что кадлуб длуги, а ноги крутке,[153] — мрачно говорил дед. — Убежать не успел… Ну, хватит, будешь иметь за правду.
— Сволочи, — сжав зубы, сказал Алесь.
Дед грустно улыбался.
— А что такое мера добра и зла? У многих — карман. Ради него не то что свеклу — человека затопчут.
— Жаловаться будем? — спросил Похвист.
— Нет, — сказал Алесь. — Сними с витахмовских мужиков половину недоимок. Прибавь на сахарных заводах вольнонаемным шесть грошей за час. Сторожам — ружья, и если увидят такого, с маской, — губы Алеся жестко скривились, — пусть стреляют в него под мой ответ. И мужики, если заметят, пусть стреляют.
— Правильно, — сказал дед. — Так, говоришь, шляхта?
— Конечно, шляхта, — ответил Похвист. — Разговор выдает. Да и зачем мужикам на хорошие для них новшества жаловаться?
— Ясно, — сказал дед. — Вот мы им мину и подведем. Увидят мужики, как Загорским везет, так, может быть, кого-то из своих и цокнут обухом в лоб.
А через неделю случилось еще худшее.
Стафан Когут и Юлиан Лопата ехали на одном возу из Суходола. Возили кое-что продать. Возвращаясь, купили четверть водки, взяли из нее по чарке под домашнее сало, остальное закрыли и положили под подстилку: у Когутов должны были рыть новый колодец, так хоть в начале дела и не положено, а все же напоить надо, чтоб не говорили, что Когут скупердяй.
Стафан купил еще поршники для малышки. Очень уж хорошие были поршни, как фабричные: низ сплошной, верх, как андарак, клетчатый, из желтых и синих кожаных полосок, а ремешок, которым затягивают, красный, как мак-самосей.
Стафан все время доставал и рассматривал их, улыбаясь в молодые, густоватые уже усы, золотистые, как у отца. Самый безобидный из всех Когутов, воды не замутит, он был хорошим мужем и отцом.
Все приезжие во всех книгах хвалили местных людей за то, что те были хорошими родителями и мужьями. Но те книг не читали, да и удивились бы, прочитав: «А как иначе? Молодой — дури, сколько хочешь, хоть в лозу с чеканом иди, а женился — тут уж не-ет!»
Ехали домой немного навеселе. У Стафана тоже был хороший голос, хотя и хуже, чем у Андрея. Он пел, а Юлиан ему подтягивал густым басом:
Были у мати три сына на роду,
Приказали да всем трем на войну.
Ой да старшему не хочется,
Молодшему не приходится.
Ну, а средний меч берет, собирается,
С батькой, с матерью прощается.
— Не кусай усы, мой татка, при мне,
Не плачь, моя родная матка, при мне,
Не плачь, не плачь, моя матушка, при мне.
Наплачешься, моя мамка, без мяне,
Наголосишься, наплачешься,
С сиротами накугачишься.
— Погоди, — сказал вдруг Юлиан. — Кто это?
Из лесного острова слева от дороги вылетели два всадника. По белым свиткам было ясно — мужики. Не остерегаясь даже того, что конь может угодить ногой в хомячью нору, убегали, словно от смерти.
Юлиан узнал в одном из всадников Корчака. Второй был незнакомый.
— Как на слом головы, — сказал Стафан. — Кто б это?
Юлиан промолчал.
Всадники пересекли битый шлях саженей за пятьдесят перед возом. Стафан смотрел на них с интересом. Люди медлили, видимо раздумывая, куда кинуться. Левее от них было конопляное поле, а за ним — склон, поросший медными соснами. Правее — кусты, за которыми лежал чахлый, на сыром месте, лес. На опушке, как богатырь, стояла могучая сухая сосна.
Всадники, видимо, решились — поскакали налево, стежкой через коноплю. Когда телега подъезжала к месту, где они пересекли дорогу, Стафан увидел, что кони, оседая и бессильно сползая вниз, уже несут людей по крутому склону, заросшему соснами… На шляху лежали хлопья пены.
— Н-ну, — сказал Стафан, — загонят коней.
— Замолчи, — бросил Лопата. — Не твое дело.
С острова, откуда выскочили всадники, послышался цокот копыт.
— Вот почему, — догадался Стафан, увидев десяток верховых.
На свежих, почти не утомленных конях всадники глотали дорогу вдвое быстрее, чем предыдущие, и скоро вылетели на шлях. Остановились, оглядываясь. Лица были закрыты белым.