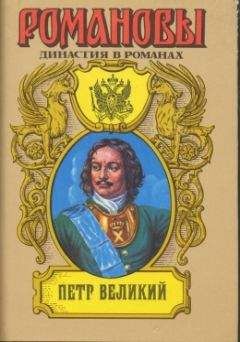Что, если Монс одолеет Марту? Всё тогда погибло. Проклятая немка обратит их в прах. Могла же она когда-то с самим Петром делать всё, что хотела! Правда, государь был тогда юн, его не окружала ещё верная стая птенцов и советников, он только присматривался к жизни, – но всё же… Надо было действовать сейчас же, не теряя ни минуты, пока не поздно.
Меншиков неслышно поднялся и, распахнув дверь, зорко вгляделся в сумрак сеней. По углам, далеко от терема, прислонившись к стене, дремали дозорные. Он тихо окликнул их и, убедившись, что никто его не слышит, вернулся к Марте, что-то горячо зашептал ей на ухо.
– Ну как тебя не любить? – воскликнула Марта и, вскинув руки, повисла у него на шее.
– Погоди, – отмахнулся «птенец». – Покудова спит Пётр Алексеевич, я и почну сие дело. Мигом обернусь.
Он приложился к руке хозяйки и уверенно направился к выходу.
Запахнувшись в потрёпанный халат из китайской нанки[237], Пётр сидел на кровати и внимательно слушал успевшего уже побывать где надо и вовремя вернувшегося Меншикова. На маленькой, собственной работы царя, скамеечке скромненько сидела Марта.
– Ныне все козни Карловы как на ладони у меня, государь. Идёт он на нас через Украину. Сие верно, как нынче суббота.
– Идёт! – фыркнул Пётр. – Про то и нам ведомо. Посему две заботы у нас. Не допустить бунту на Украине, сие перво-наперво. И ещё – не дать Карлу, ежели он у нас объявится, с Левенгауптом соединиться.
– Про то и вся думка, Пётр Алексеевич! Весьма я в сумлении против Мазепы. И дьяку, что от Петра Андреевича Толстого из Константинополя прибыл, тоже верь, государь. Правду сказывает Толстой, снюхался Карл с турецким султаном. Не зря ж похваляется – я-де парадом по России пройду, а в Москве, в Кремле, на роздых остановлюсь…
– Молчи! – гневно прикрикнул Пётр. – Через меру, видно, зазнался, что смеешь при мне такую хулу повторять!
Вечером был собран военный совет, на котором царь объявил, что сам едет в армию.
По случаю отъезда государя князь-кесарь устроил прощальный пир. Но Меншиков, вместо того чтобы поехать к Фёдору Юрьевичу, отправился, едва лишь стемнело, в Преображенское к царевичу Алексею.
– Поздорову ли, херувим?
Алексей молча поклонился.
– А и сдал же ты, Алексей Петрович! – с притворным участием вздохнул Меншиков. – В гроб краше кладут.
Царевич в самом деле был жалок: впалая грудь, вытянутое восковое лицо, в семнадцать лет – морщинистая и дряблая кожа на шее, сбившиеся от пота и грязи длинные волосы, ниспадающие на узенькие плечи, острый, точно неживой подбородок.
«В гроб краше кладут», – повторил Меншиков про себя уже не участливо, а с какой-то злобной радостью.
Алексей засуетился.
– Не голоден ли? Уж я так рад, так рад тебе, Александр Данилович!.. Пожалуй, Александр Данилович, садись, – говорил он быстро и заискивающе, обеими руками хватаясь за грудь.
Меншиков никогда не приходил к нему с добром – то передавал, что гневается отец, то усаживал за науки и бил смертным боем по малейшей жалобе учителя-иноземца, то заставлял огромными кубками пить вино и плясать в кругу голых дворовых девок. Царевич выполнял всё это беспрекословно. Сам Пётр строго-настрого приказал ему ни в чём никогда не перечить Александру Даниловичу и слушаться его как «Господа Бога».
– Ты сядь! Пожалуй, Александр Данилович, сядь…
– Сам-то ты садись, херувим. И… чего ты уставился на меня, как на дух на загробный?
По лицу царевича пробежала судорога. Он с трудом поднял руку, перекрестился и улыбнулся тихой, больной улыбкой.
– Не серчай, Данилыч… А чего я спросить хотел у тебя…
– Спрашивай.
– Я по чистой совести. Не в сетование и не во зло… Пошто, как вижу кого, кто от батюшки, сердечко моё таково часто – тук-тук, тук-тук. И все стучится, стучится, а перстам в те поры студёно-студёно.
– От лукавого сие у тебя, – не задумываясь, ответил Меншиков. – Больно много божественного вычитываешь, перемолился. А от батюшки не вороги, но други с любовью к тебе хаживают, уму-разуму учат.
– Вот и мне так сдаётся… Не инако от лукавого, – вздохнул Алексей. – А я не в хулу… Ах, да садись же, не мучь!
Александр Данилович присел, но от хлеба-соли отказался.
– Недосуг, херувим. Я на малый часок. Не лясы точить, а с повелением.
«Ну, так и есть, – чуть не заплакал царевич, – принёс беду». И, не в силах сдержать зябкой дрожи, переспросил чуть слышно:
– С повелением?
– Наказал государь обрадовать тебя лаской. В Смоленск отправляет. Утресь же поедешь. Потому война у нас, и вместо тебе не Псалтирь читать монаху подобно, но ратное дето творить.
– Я воли батюшкиной не ослушник… Токмо чего я не видел в том Смоленске? Иль без меня мало людей?
– В Смоленске, в Минске да ещё в Борисове пала честь тебе провиант заготовить и рекрутов набрать.
Сказав это, Меншиков встал, церемонно поклонился и исчез.
Царевич бросился было за ним, но у самого порога решительно остановился.
– Вот так оказия, Иисусе Христе, – обиженно забормотал он. – Куда же мне, хилому, рекрутов набирать?
Из соседнего терема вышел сухой и длинный обер-гофмейстер Алексея, Гизен.
– Ви звайль?
– Не, – замотал головой Алексей и тут же виновато потупился. – А может, и звал…
Гизен ухмыльнулся.
– Как рюсс говориль? Лёгкий помин? А?
– Пришла?! – бросился царевич к двери.
– Принцесс Трубецка пришель.
В терем впорхнула зазноба Алексея, княжна Трубецкая.
Два гнедых жеребца, запряжённых в лёгкие сани, во весь дух мчали Меншикова к Немецкой слободе. Спускалась студёная, глухая московская ночь. Улицы быстро пустели. Редкие прохожие, тревожно озираясь по сторонам и стремясь держаться подальше от заборов, торопились по домам. Порою доносились издалека пьяная песня, грязная ругань. Возница Александра Даниловича неистово стегал лошадей. Седок одной рукой крепко сжимал черенок сабли, а другой держал наизготове топор. В Москве так ездили все, кому была дорога жизнь. По ночам на всех углах подстерегала напасть. Москва разбивалась на два лагеря – нападавших и оборонявшихся. Повсюду шныряли разбойные. Голод делал их отчаянными и бесстрашными.
У самой слободы Меншиков легонько ткнул возницу в спину и на ходу легко выпрыгнул из саней.
Перед ним раскинулась ровная, как линейка, улица, освещённая ложившимся от окон мягким голубоватым светом. Слух уютно, по-домашнему ласкали колотушки ночных сторожей.
Не успел Александр Данилович сделать и двух шагов, как перед ним выросли занесённые снегом фигуры. Меншиков замахнулся было топором, но, уловив немецкий говор, тут же успокоился.
Признали его и сторожа.
– О, пожалюста, дорогой гость. Мы ошен вас просим, – приветствовали они его и почтительно расступились.
Топор полетел в сани. Возница переложил его к себе под сиденье и пустил коней шагом. Монс уже собиралась спать.
– Если не государь – не пускать! – крикливо распорядилась она, услышав стук в дверь, и на всякий случай, взяв с комода флакон, надушила подмышки и грудь.
В сенях зашумели. Кто-то крепко выругался. Анна Ивановна прислушалась, и её маленький ротик скривила злоба. Она узнала Меншикова по голосу.
– О, какой дур! – произнесла она с нарочитым гневом по-русски. – Не слюшай её, она всегда путайт. Такой глюпый дур.
Поздний приход непрошеного гостя заставил её насторожиться. Меншиков это сразу заметил по слишком уж подчёркнутой готовности хозяйки провести с ним «за бокаль вина хоть цели нош».
Разговор, однако, долго не клеился. Немка была уверена, что гость заговорит о Петре, но Меншиков, к удивлению её, даже не заикался о государе.
Допив вторую бутылку подогретого красного вина, он поглядел на этикетку и приятно осклабился:
– Добрая марка! Прусская.
– О, ви заграниц научилься наш язык? – удивлённо сдвинула она подбритые золотистые брови.
– Куда уж нам! – смущённо отмахнулся Александр Данилович. (Он терпеть не мог, когда с ним говорили о грамоте, которая никак, несмотря на все его старания, не давалась ему.) – А только видывал я таковские бутылочки у посла прусского Кейзерлинга…
– У Кейзерлинг? – стараясь придать своему голосу целомудреннейшую невинность, переспросила Анна Ивановна.
Но от Меншикова не ускользнуло мимолётное беспокойство, отразившееся на лице немки. Он изысканно поклонился:
– У него… Отменная марка! Дозвольте ещё единую опрокинуть.
– Я ошен прошю. На здоров.
Подняв налитый бокал, гость прищёлкнул языком и вдруг рассмеялся:
– Был я, Анна Ивановна, у него давеча. И забавник же он! Так распотешил – любо-дорого! Виршу читал мне, да по-нашенски. Со смеху чуть не разорвало меня.
Александр Данилович отхлебнул из бокала и, кривляясь, прочитал:
Ви, старюшка мой любезни!
Ви не может понимайт,
Как приятно и польезно
Рюмка водки выпивайт.
– Ха – ха – ха! – захлебнулся он смехом. – Вот так уважил!