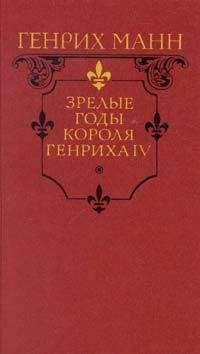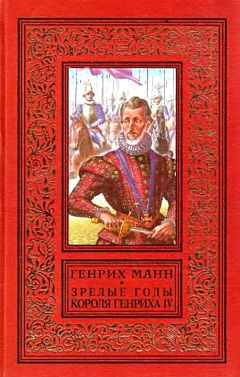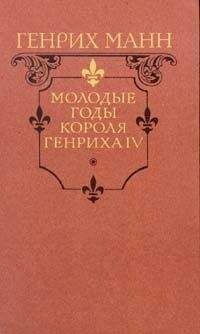Но не от Генриха могли они скрыть свои намерения: он ни на миг не поверил в их пламенное благочестие. Генрих приказал сшить себе траурное платье из лилового кафтана покойного: он спешил, и у него не было денег на материю. Лиловый кафтан ушили, но придворные его все же узнавали и подталкивали друг друга локтем из презрения к бедности короля: тут уж не разживешься. Они отправили в покои Генриха посольство с требованием переменить веру, и притом немедленно. Неотъемлемым признаком королей Франции является-де миропомазание из священного сосуда и коронование рукою церкви. Генрих побледнел от гнева. Пусть думают, что от страха, ибо в это мгновение он, казалось, был у них в руках: ведь они не могли знать, что он давно привык иметь дело с убийцами.
Он отказался выполнить их требование с таким величием, какого они от него не ожидали: занимая престол, он не отречется от своей души и сердца. Потом окинул взглядом собравшихся. Тут была вся знать, но кого же они выслали вперед, кому предоставили держать слово перед Генрихом? Некоему д’О, всего-навсего О, да он и с виду таков: пузатый молодой человек, который благодаря милостям прежнего короля стал лодырем и вором; один из тех, кто поделили между собой страну и доходы. Так за тем им еще нужен какой-то король? И этот бесчестный негодяй осмелился его, человека, который всю жизнь боролся, наставлять на путь истины и ссылаться на единство нации! Да, ведь в назидания пускаются обычно бесчестные люди! Генрих пристально посмотрел на него и заговорил с особенной твердостью: — Среди католиков моими сторонниками являются все истинные французы и все честные люди, — После столь явного оскорбления присутствующие смолкли — и оттого, что это бросил им человек с решительным лицом, и оттого, что это была правда.
Но таких людей убедить еще легче, если за дверью слышится звон оружия. И вот дверь распахивается, топая, входит один из солдат, Живри, он кричит: — Сир! Будем смелы — и вы король! Отступают только трусы. — После этого все, кого он разумел, исчезли. Потом явился Бирон, он хотел заверить Генриха, что уж швейцарцы-то ему не изменят. Правда, одних швейцарцев мало, их не хватит. «Но зато есть Бирон, костлявый, суровый человек, уже в летах, а все-таки он может, опираясь на большие пальцы рук, обойти вокруг стола; он был моим врагом, и настолько благороден, что признал свою ошибку. И он является ко мне, хотя мои дела и обстоят очень плохо». — Бирон! Дайте мне прижать вас к сердцу. С такими, как вы, нельзя не победить.
В течение последующих пяти дней новый король видел, что его войско тает и тает, как перед тем таяло войско Лиги. Маршал Эпернон, который был еще так недавно опорой королевства, нарочно поссорился с Бироном, чтобы потом заявить: он, маршал Эпернон, при таком короле не будет вести войну — это же разбой на большой дороге. Сказал и удалился в свое королевство, в Прованс. У каждого из них было по маленькому королевству, которое они себе отхватили от провинций, входивших в состав большого; туда-то он и удалился, забрав с собой своих дворян и всех солдат. У нового короля не было никакого способа удержать их. Принять католичество? Тем скорее покинут его эти же люди. И заслужил бы он только презрение своих собственных соратников и единоверцев, а также иноземных друзей; и уж тогда ни из Англии, ни из Германии солдат не жди.
В те дни, полные отчаяния, он написал со своим Морнеем обращение к французам, в котором заявлял, что гарантирует обеим религиям их прежнее положение. Сам он оставляет за собой право принять ту, которую будет исповедовать большинство его соплеменников. Он не указал точно срока, но он знал, что это случится. Когда он будет крепко держать в руках и королевство и непокорную столицу, только тогда, и притом — только по доброй воле. Став неограниченным повелителем королевства, он дарует своим прежним единоверцам полную свободу совести, таково было его решение; принял ли он его ради них или из уважения к самому себе, чтобы не дать пощечину всему, чем он был раньше, — не все ли равно? Он тот король, который выпустит впоследствии Нантский эдикт и будет всей своей властью защищать свободу. Он принимает это решение и прозревает будущее именно в эти пять дней, когда почти все вокруг него разбегаются и другой, наверно, бросился бы за ними, чтобы их вернуть.
А тем временем столица, которую он все еще осаждал, дошла до последних крайностей безумия. Немногочисленные люди, сохранившие трезвость суждения, предпочли бы даже, чтобы вернулся их погибший вождь Гиз. Оставленное им наследие превосходило все, что они видели при его жизни. И в сравнении со своей сестрицей Монпансье Гиз был прямо-таки мудрецом. Она же ликовала и бесновалась и бросилась на шею гонцу, принесшему весть о смерти «тирана». Ей не давало покоя только то, что умирающий Валуа мог уже не узнать, кто именно подослал, к нему коричневого монашка. Это Гиз протянул из могилы руку и нанес тебе удар!
Герцогиня заставила свою мать, мать обоих убитых Гизов, говорить с алтаря к народу, и та действительно доводила людей до исступления своим кликушеством, ибо через эту старуху вопил весь Лотарингский дом, его гнусность, распутство и тайное безумие, толкавшее его на все совершенные им злодейства. Герцогиня хотела немедленно провозгласить королем своего брата Майенна, но тут она получила отпор от испанского посла. Его государь, дон Филипп, окончательно решил, что теперь Франция — всего лишь испанская Провинция; его войска заняли Париж. Под защитой своего повелителя Лига могла предаваться любым неистовствам. Мать «Якова-где-ты?» привезли из деревни и воздавали ей почести, точно пресвятой деве. Изображения коричневого парня и обоих Гизов были выставлены на алтаре, и им усердно поклонялись. Не часто в истории выпадали на долю почтенных горожан, простолюдинов и особенно возвышенной духом молодежи такие дни, когда можно невозбранно ходить вниз головой; хорошо еще, что они, при всех злоупотреблениях религией, не обладали серьезной и честной верой: ибо тогда все это было бы просто чудовищно — и беснование, и упоение, — хотя оно и так чудовищно, если поразмыслить…
Это были те самые дни, в которые Генрих, стоя перед запертыми воротами города и всеми покинутый, все же оставался тверд в своем решении спасти разум и защитить свободу. Но сначала нужно вырвать королевство из когтей мирового владыки. И Генрих не отступит в Гасконь и не бежит в Германию. Он слышит голоса, которые советуют ему и то и другое, они кажутся голосами человеческого, здравого смысла; притом ведь находишься в положении, из которого как будто нет выхода. Но один он знает: трудно оставаться твердым. Отвагой завоевываешь доверие, доверие дает силу, сила же — матерь побед, победами мы укрепим наше государство и обезопасим нашу жизнь
Восьмого августа он снялся с лагеря. Останки покойного короля Генрих проводил только часть пути. Обстоятельства не позволяли предать их земле с подобающей торжественностью. Затем он разделил надвое свое войско, от сорока пяти тысяч солдат у него осталось всего десять-одиннадцать тысяч. Маршала Омона и своего протестанта Ла Ну он послал, дав каждому по три-четыре тысячи солдат, на восточную границу, чтобы они прикрывали королевство от нового вторжения испанских войск. А сам с полсотней аркебузиров и семьюстами конников решил принять на себя все силы противника, сколько их ни было в стране, но именно там, где он наметил.
Он двинулся на север, к Ла-Маншу, в надежде на помощь английской королевы, которая первая нанесла удар мировому владыке. Если бы поддержка со стороны Елизаветы не представлялась ему возможной, Генрих никогда бы не стал рассчитывать на то, что город Дьепп откроет перед ним ворота. Двадцать шестого он стал у стен Дьеппа, и тотчас ворота растворились. Эта поспешность была порождена тревогой. Вот появляется, прорвавшись сюда из подозрительных далей, главарь разбойничьей шайки — ибо кто же он еще? Называет себя королем, а страны нет; полководцем — а нет солдат. Жена и то от него сбежала. С другой стороны, никто не знает, когда подоспеют силы великолепного Майенна и что еще до тех пор может случиться. Вдруг английские корабли примутся обстреливать с моря несчастный город, а с суши уже напирают солдаты Генриха. И вот город выбирает зло, которое считает наименьшим, и открывает ворота. Держа в руках огромные ключи, стоят на коленях отцы города, подносят хлеб-соль, а также бокал с вином, которое, может быть, отравлено. Но король разбойников поднимает с мостовой толстого старика, точно пушинку, и говорит, обращаясь ко всем: «Друзья мои, прошу вас, не надо этой шумихи! Все у нас по-хорошему, и этого мне достаточно. Добрый хлеб, доброе вино и приветливые лица».
Кубок он так и не выпил, чего они не заметили, пораженные тем, что он оказался столь беззаботным и простым. Они же были потомками норманнов, с более тяжелой кровью, чем у него. Их город стоял на месте, открытом для вражеских ударов, и его граждане встречали частые напасти выдержкой и мужеством. Но сохранять вдобавок веселое расположение духа! Взять у молодой девушки из рук розу, шутить и каждому что-нибудь обещать! А есть у него что дарить-то? Они все же пересчитывают его небольшой отряд, горсточку всадников, жалкую пехоту. Потом размышляют и спрашивают друг друга: — И он с этим намерен завоевать герцогство Нормандию? Не может быть! — А дело обстояло так, что «с этим» он намеревался завоевать все королевство, от края до края. Жители просто не поняли его, когда он заявил об этом во всеуслышание: для людей, лишенных воображения, бесспорным казалось обратное.