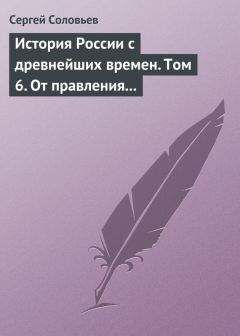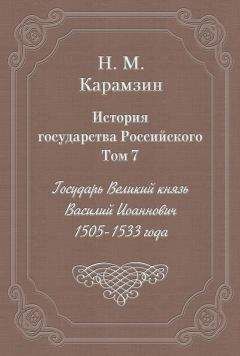А тот рыбарям рукой показал: давай, мол, начинай. Те за верхний край верёвки ухватились, на себя подтягивают невод, перебирают. Плещеев кули рогозовые открыл. В одном рыба серебром заблестела, в другом раки шевелятся, потрескивают.
Наконец Василий голову к послу повернул, сказал громко:
- Вот ты, князь Войтех, мне в любви распинался, за короля своего Сигизмунда ратовал, о мире речь держал. Так и ответствуй по-доброму, если от чиста сердца всё это: зачем в Дмитров заезжал? К чему брата моего Юрия на меня возмутить пытался? Аль вы с Сигизмундом усобицы меж нами ищете? Ну нет, не допущу до этого!
Неожиданно прервал речь, кулаком погрозил холопам:
- Шнур нижний подняли, рыбу упускаете! Жмите к земле!
Лизута к неводу подскочил, засуетился, а Василий снова к послу повернулся:
- Рад бы я не воевать с королём Сигизмундом, в согласии жить, да нет у меня к нему веры. Города наши древние, российские держит он. По какой правде это, ответствуй, князь Войтех?
Тот молчал, грудь сдавило, дышать тяжело. Упасть боится, едва стоит. Василий, не замечая этого, своё продолжает.
- Где справедливость? Ан и сказывать тебе неча, князь. То-то! Я же мыслю, и это мой ответ королю Польскому и великому князю Литовскому будет: замириться погожу, но и воевать до весны будущей воздержусь. Погляжу, как король Сигизмунд поведёт себя.
- Государь, дозволь отбыть, - с трудом проговорил Войтех. Василий пожал плечами, сказал со смешком:
- Аль на уху не останешься, князь? Сейчас на костерке сварим, отведаешь. С дымком, вкусно. А то раков, коль ушицы не желаешь. Пальцы оближешь.
- Нездоровится мне, государь.
- Ну разве так. Не держу. Эгей, Михайло, Лизута, доставьте королевского посла в Москву, лекаря к нему привезите. Когда же князь Войтех соблаговолит в Литву отъехать, велите путь его обезопасить!
* * *В буднях не заметили, как и осень с зимой пролетели. Наступила весна нового года. На масленой провожали зиму. Праздник был весёлый, разгульный, с блинами и медами хмельными. На Красной площади качели до небес. Скоморохи и певцы люд потешают. Гуляй, народ честной. И-эх!
Вассиан от всенощной в келью удалился. На душе пусто, тоскливо. Нахлынуло старое, древнее, растревожило. Вспомнилось, как в отроческие годы, когда ещё сан иноческий не принимал, на масленую городки снежные строили, с девками тешились, на тройках гоняли…
Поднялся Вассиан с жёсткого ложа, поправил пальцами фитилёк лампады, накинул поверх рясы латаный тулуп, клобук нахлобучил, выбрался на улицу. Под ярким солнцем снег таял, оседал. С крыш капало.
Вассиан брёл по Москве, месил лаптями снег. На Красной площади остановился. Люда полно. Вся Москва сюда вывалила. Гомон, смех. Поблизости от Вассиана бабы и девки в кружок собрались, ротозейничают. Ложечник, плясун, по кругу ходит, пританцовывает, в ложки наяривает.
В стороне мужик кривляется, песни орёт. Юродивый в лохмотьях, лицо струпьями покрыто, веригами звенит, смеётся беспричинно, в небо пальцем тычет.
- Бес обуял, - шепчет Вассиан и хочет повернуть обратно, а ноги вперёд тащат, где народу ещё гуще и дудочники на рожках наигрывают, в бубены выстукивают.
Нос к носу столкнулся с боярином Версенем. Остановились, дух перевели.
- Сатанинское представление, - пробасил Вассиан. - Непотребство!
- Вавилон! - поддакнул Версень.
Замолчали, глазеют по сторонам, качают головами. А вокруг веселье. Какой-то монах-бражннк, хватив лишку, рясу задрал, отбивает на потеху зевакам камаринскую, взвизгивает:
- Ах, язви их! - И девкам подмигивает: - Разлюли малина!
Мужики смеются:
- Вот те и монах!
- Соромно, - сплюнул Версень.
- Стяжательство и плотское пресыщение суть разврат - Вассиан перекрестился.
Аграфена из толпы вывернулась. И на лице довольство, румянец во всю щёку. Версень дочь за руку, домой потащил.
- Раздайсь! Пади! - закричали вдруг в несколько глоток. Вздрогнул Вассиан, обернулся круто. Из Спасских ворот намётом, с присвистом вынеслись верхоконные, врезались в толпу. Не успел народ раздаться, как смяли, копытами люд топчут, плётками машут, баб и девок по спинам хлещут.
Под передним всадником конь белый, норовистый. Вассиан признал великого князя, а с ним Плещеева и Лизуту с гриднями из боярской дружины, ахнул.
Какой-то мужик наперерез кинулся, государева коня за уздцы перехватил. Конь на дыбы взвился, но у мужика рука крепкая. Тут Михайло Плещеев коршуном налетел, что было силы мужика перепоясал по голове плёткой. Мужик бросил повод, глаза ладонями закрыл.
С гиканьем и визгом пронеслись мимо Вассиана всадники, едва успел он в сторону отпрянуть. Скрылись. Толпа снова прихлынула. Мужик снегом кровь со лба отёр, выругался, погрозил вслед великому князю.
- Избави меня от лукавого, - вздохнул Вассиан и, приподняв полы тулупа, покинул площадь.
* * *А у Михайлы Плещеева в хоромах дым коромыслом. Стряпухи и отроки с ног сбились. Гостей хоть и мало, но с ними сам государь. Зубоскалят, вспоминают, как люд на Красной площади распугали.
Василий грудью на стол навалился, глазищами по горнице шарит, слушает. Боярин Лизута не знает, как и угодить великому князю. Голос у оружничего сладкий, в душу лезет.
- Осударь-батюшка, а кого-то я приметил в толпе? Хи-ха!
Василий взгляд на Лизуту перевёл.
- Косой Вассиан жался. Ну ровно нищий. Хе-ха!
- Уж не его ли ты, Михайло, плёткой угостил? - затрясся в смехе великий князь, и все грохнули.
- Еретика косого и хлестнуть бы не грех. Экий ты, Лизута, не мог мне загодя на него указать, - вторит Плещеев.
- Попы на Руси завсегда мнят свою власть выше великокняжеской. Ан нет, выше государя не летать, - снова вылил словесного елея Лизута.
Василий недовольно поморщился. Лизута оборвал речь. В горнице наступила тишина. Государь положил на стол крупные, жилистые руки. Потом вперился в Плещеева.
- Заголосил бы ты, Михайло, кочетом, - сказал и откинулся к стенке.
Плещееву дважды не повторять, мигом на лавке очутился, голову вверх задрал, руками, что крыльями, захлопал, на все хоромы закукарекал.
- Ай да Михайло, угодил! - пристукнул Василий ладонью по столу. - Уважил. Вижу, любишь меня.
Плещеев с лавки долой, великому князю поясной поклон отвесил.
- Верю, Михайло, верю, - похлопал его по плечу Василий.
А тот рад без меры, потешил государя. Тут же, ещё дух не перевёл, склонился чуть ли не к самому уху Василия, новое спешит выложить.
- Государь, - таинственно зашептал Плещеев. - Курбский-князь отроковицу от тя прячет, князя Глинского племянницу. Хоть летами она ещё не выдалась, а собой хороша. Ух-ха! Видать, Курбский дожидается, Елена в сок и невеста ему.
- Князь Семён не дурак, - снова хихикнул Лизута.
У Василия брови сбежались на переносице. Сказал - отрезал:
- На девку погляжу, а с Семёна спрошу, - и поднялся из-за стола. - А пока же кличь, Михайло, твоих холопок, веселья желаю. Да песенников не забудь, пущай душу взбодрят.
- Мигом, государь! - крутнулся Плещеев. - Ух, и порадую я тебя…
Глава 10. ЛЮДИ ГОСУДАРЕВЫ
Боярская вотчина. Московские рати. За здравие княжны Елены. Твердина хворобь. Дьяки посольские. Боярин Твердя ответ держит. В замке виленского воеводы. Жалостливые тиуны государю не надобны!
Боярин Иван Никитич воротился с поля. Весна погожая, к урожаю, и на сердце радостно. Боярину Пушкарный двор бельмо в глазу. И смрадно, и грохотно. Загнал его великий князь силком к мастеровому люду, приставил для догляда. Да боярское ль это дело? На то немчишка Иоахим есть.
Версень на Пушкарный двор ходил так, для отвода глаз. Явится к полудню, голос подаст - и в караульную избу к печи.
А с теплом совсем невмоготу боярину. Потянуло в сельцо. Тиун тиуном, да своё око не помеха-Сельцо Сосновка у Ивана Никитича невелико, да место красивое, лес и речка. С высоты холма, где боярское подворье, поле как на ладони.
Спозаранку Версень объехал верхом угодья, поглядел, как крестьяне пашут да не мелко ли. На подворье воротился, в амбар заглянул. Бабы зерно в кули рогозовые насыпают. Боярин руку в короб запустил, поворошил. Зерно сухое, тяжёлое. Тиун Демьян обронил:
- В землю просится хлебушко.
- На той неделе приступай, - сказал Версень.
У крыльца мужик топчется. Голову опустил, пригорюнился.
- В чём вина, смерд? - строго спросил у него Версень. Крестьянин и рта не успел раскрыть, как тиун наперёд выскочил.
- Коня не уберёг Омелька. По моему дозволению взял из твоей конюшни, батюшка Иван Микитич, ниву свою пахать. Там в борозде конь и пал. Не уберёг он коня твоего.