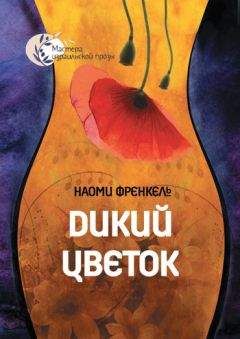Ознакомительная версия.
Лицо деда окаменело. Впервые он признается себе, что не понимает духа новых времен. Не может понять поступки собственной внучки, дочери почтенной и гордой семьи Леви. Как она могла решиться на связь с офицером-предателем? Любимая внучка, которой дед так гордился... Дед вынужден признаться самому себе, что что-то не в традициях его семьи. Что-то весьма важное было не в порядке в его доме, то, что и привело Эдит к измене. Лицо Эмиля снова смягчилось.
– Господин Леви, – голос Эмиля мягок, – поверьте мне. Совет мой искренен. Я не желаю вам ничего плохого. Я люблю ваш дом и вашу семью.
Это самое худшее, что мог он сказать деду. Разве деду нужна любовь эсэсовца? Разве даст он Эмилю уйти в облике доброго человека? Победителя?
– Вы любите нас? – в голосе деда гневные нотки. – Вы любите нас! Мы евреи. Господин офицер, я хочу вам напомнить, что вы ненавидите евреев.
– Нет, господин Леви! Нет! Я не испытываю к ним ненависти. Не как к людям, не как к отдельным человеческим особям. Я ненавижу иудаизм, в принципе. Точно так же, как принципиально ненавижу христианство.
– Вы варвары! Варвары!
– Да, господин Леви, варвары. Мы хотим быть варварами. Мы гордимся быть варварами.
– Нет больше морали, нет больше закона...
– Господин Леви, Гитлер – наш закон. Адольф Гитлер! – Эмиль щелкает каблуками, когда дед резко поворачивается к нему спиной, и кричит деду в его высокую спину:
– Господин Леви, я вас предупредил! Помните – предупредил вас!
Дед распахивает дверь до предела. В передней – Фрида. Увидев их, выходящих вдвоем, торопится также полностью распахнуть входную дверь. На пороге офицер коротко кивает, щелкает каблуками, расставаясь по-военному, и все еще колеблется уходить, бросая взгляд на ступени. Боясь, что он сейчас опять свистнет, Фрида кричит ему в лицо:
– Доброй ночи! – и от удара захлопнувшейся двери сотрясается весь дом.
Дед опускается в кресло в передней.
– Что он хотел? – лицо Фриды багрово от напряжения. – Зачем он пришел?
– Пришел объяснить, что сейчас трудные времена, Фрида. Очень трудные времена.
– Мы что, нуждаемся в нем, чтобы это знать? Именно в нем.
Чуб деда дрожит. Рука, которая полезла в карман за сигарой, возвращается и падает вдоль тела.
– Фрида, – дед чувствует сильную слабость, – старушка моя, говорю тебе, не понимаю я больше духа этих дней, Фрида. Просто не понимаю.
– Что тут понимать, уважаемый господин?
Единственный крик кукушки извещает о том, что уже половина восьмого. Дед тяжело шагая, поднимается по ступенькам. У двери рука его колеблется нажать на ручку. Дед сомневается – войти ли ему к внучке. Как он посмотрит ей в глаза. И где Филипп? Он совсем забыл о Филиппе, который, конечно, уже находится в комнате. Дед оглядывает свой костюм, поправляет чистый носовой платок в верхнем кармашке пиджака, приводит себя в порядок и входит комнату. Там тихо. Все сидят в креслах. Филиппа нет.
– Где Филипп? – спрашивает дед, – Не пришел?
– Он не пришел! – высокий и резкий голос Гейнца странно звучит в тишине. Он смотрит на Эдит с открытой неприязнью. Все так смотрят на нее. Из-за нее Филипп не вернулся в семью. Эдит опускает голову.
«Она наказана больше всех. Бедная, бедная моя», – дед торопится к ней, и мягко гладит ее опущенную голову. Дед чувствует, себя так, словно он вернулся домой из далекой чужбины.
Толчок в дверь. В сопровождении Фриды, старого садовника, Кетхен и сестер Румпель, в комнату врывается Филипп, в расстегнутом пальто и небрежно надвинутой шапке, кричит:
– Вы здесь спокойно сидите, а рейхстаг горит! Горит рейхстаг!
Шум голосов:
– Ты говоришь, горит, почему?
– Что ты спрашиваешь? Подожгли его.
– Кто поджег?
– Говорят, что коммунисты.
– Нет! Не может быть, чтобы коммунисты.
– Это что, важно, кто поджег, все равно обвинят евреев.
– В городе беспорядки, Филипп?
– Нет беспорядков, Эдит, но город полон войсками, полицией, штурмовыми отрядами и частями СС.
– Этот огонь превратится в кровопролитие. Убитые будут падать налево и направо.
– Прекрати свои черные пророчества, Гейнц.
– Сегодня двадцать восьмое февраля 1933 года...
– Перестань, Альфред, рассказывать при любой возможности – который час, какая дата, какой год.
– Год 1933, отец.
– Где Иоанна? Иисус, и святая Дева! Девочка болтается на улице во время этих беспорядков!
В углу комнаты стоят сестры-альбиноски, их белые руки выделяются на белых передниках:
– Только бы не случилось несчастья с девочкой. Если подумать, откуда это несчастье родилось, оно действительно велико, – моргают сестры красными веками на белых лицах. Они ведь профессиональные акушерки. – Какое несчастье! Какое несчастье!
Дверь открывается. В комнату вбегают Иоанна и Саул.
– Вы слышали! Вы слышали! Запретили праздник – юбилей нашего Движения.
– Несчастье, – говорит дед, – и это тоже несчастье!
– Ужин готов, – провозглашает Фрида.
Только сейчас, когда дядя Альфред встает со стула, все видят, что пиджак его разорван на спине. До сих пор он ухитрился это скрыть, ибо снял пальто спиной к окнам.
– Что с тобой случилось, Альфред? – бежит к нему дед. – Расскажи нам, в конце концов, что произошло: почему разбиты очки и разорван пиджак на спине?
– Разорван, отец, потому что его разорвали. Очки разбили, одежду порвали.
– Но кто тебе это сделал?
– Студенты в университете. Этих несчастных юношей подстрекали. Штурмовики вошли в университет и начали подстрекать наивных парней, чтобы они набросились на еврейских профессоров. Они так и сделали.
– Так и сделали!
Даже сейчас дед, как всегда, делает выговор сыну, но тут же качает головой, отменяя неуместную отцовскую строгость, и с этих пор уже не прекращает качать головой. Дед не верит, дед не хочет верить. Он не в состоянии понять, как такое сделали его сыну Альфреду, с его слабыми мускулами, землистым цветом лица, тихим голосом. И любой здравомыслящий человек понимает, что он и муху не может убить. И ему такое сделали. Дядя Альфред закатывает рукава, сначала рукав порванного пиджака, затем рукав рубашки. Большие синяки обнажаются на его руке. И хотя глаза его сухи, они выглядят плачущими. Теперь все домашние, опустив глаза, окружают дядю. Все, кроме Зераха. Глаза его широко раскрыты, – глядят на синяки. Дед тоже, как Зерах, смотрит широко раскрытыми глазами на побои сына. В мгновение ока дед превращается в отца. Осторожно прикрывает руку сына, сначала рукавом рубашки, затем рукавом пиджака, и кладет свою руку на плечо сыну:
– Иди, поменяй одежду.
– Нет у меня другой одежды.
– Что же у тебя в этих двух огромных чемоданах?
– Книги, отец. И все мои сочинения.
– Завтра куплю тебе новую красивую одежду, сын, – дед берет под руку дядю Альфреда и шествует во главе процессии в столовую, к праздничному ужину.
Только Эдит и Филипп остаются одни в комнате. Филипп все еще в пальто и шапке, и поэтому Эдит волнуется – а, может, и он скрывает под пальто порванный костюм.
– Почему ты не снимаешь пальто, Филипп?
Он снимает пальто. Костюм его измят, рубашка не первой свежести, галстук сдвинут набок. На лице его усталость, глаза красные от бессонницы. «Больше я не заставлю его страдать. Достаточно это сделала. Хватит!» Голос ее ласкающий:
– Минутку, Филипп. Дай мне поправить тебе галстук.
Руки ее на его шее. Она опустила голову, и поэтому волосы ее касаются его лица, дыхание его касается ее. Руки ее не торопятся поправить галстук, соскальзывают ему на шею. Лицо близко к его лицу, глаза ее вопрошают. Он берет ее лицо в свои ладони и целует в губы. Губы ее тоже вопрошают. Она чувствует его поцелуи и закрывает глаза. Прижимает свои губы к его губам, не открывая глаз.
– Почему ты закрываешь глаза?
– Они сами закрываются.
Лицо ее приветливо, улыбается, только ресницы слегка дрожат.
– Ты добра и красива, Эдит, – говорит он и думает про себя: «Приветлива и лжива».
– Я счастлива, что ты вернулся к нам, Филипп, – говорит она и думает про себя: «Это, в общем-то, проще, чем я полагала. Может, это будет еще проще?»
Зашли в столовую. В этот момент Франц направляется к радио, включить его и послушать новости.
– Выключи! Я хочу спокойно поесть, – сердится дед.
Приемник молчит, жалюзи опущены, двери заперты, и все лампы горят. Вся посуда сверкает. Сосновые ветки в банке поблескивают зеленью, придавая праздничность столу. Даже шум ветра между соснами в саду, в столовую не доходит. И только дядя Альфред, моргая, упрямится комментировать кукованье часов.
– Сейчас восемь с половиной.
– И что, – опять выговаривает ему дед, – ну, что такого, если время – восемь с половиной?
Портрет отца на стене вдруг стал чуждым из-за Шпаца из Нюрнберга. Никто на портрет не смотрит, кроме дяди Альфреда и халуца Зераха. Дядя изучает портрет, и время от времени качает головой, в знак отрицания, но тут же – в знак утверждения, словно разговаривая с самим собой. Зерах же смотрит на портрет покойного брата дяди Альфреда, сравнивая их лица. Зерах занят дядей Альфредом. А дед? Не ищет спасения в этот вечер, молчит. Кончики его усов взъерошены.
Ознакомительная версия.