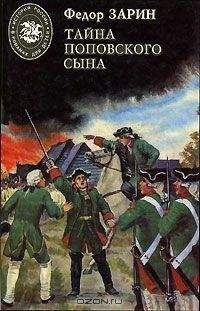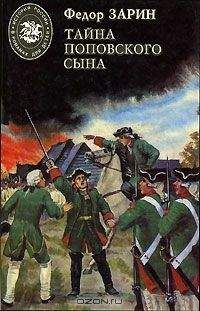Людовик XV, боясь русского господства на Черном море, с удовольствием взял на себя посредничество и тотчас же поручил своему послу при Оттоманской Порте, маркизу Вильневу, начать соответствующие переговоры с великим визирем.
С своей стороны, Бирон, польщенный обращением к нему австрийского кесаря и нисколько не заинтересованный в национальном торжестве России, склонил императрицу вручить маркизу Вильневу полномочия на ведение от имени России переговоров с Портой. Один канцлер Остерман понимал настоящее положение дел, но со свойственным ему лукавством, высказав свои возражения императрице, отстранился от дальнейшего ведения дела, не желая навлекать на себя гнев всемогущего фаворита.
Тем временем Миних спешил воспользоваться своим выигрышным положением и уже отдал распоряжение о дальнейшем движении войск к берегам Дуная, рассчитывая одним решительным ударом покончить с турецкой армией и броситься дальше, на самый Константинополь.
Но через три дня после Ставучанской битвы уже был подписан бесславный Белградский мир. Цесарский посланник, граф Нейберг уступал все, чего ни требовал великий визирь, стоявший у стен Белграда.
Снабженный полномочиями Петербургского кабинета, маркиз Вильнев был столь же щедр за счет России.
По Белградскому миру, Австрия уступала Турции все, что приобрела за двадцать лет, благодаря гению принца Евгения, отказалась от всех прав на принадлежавшую ей часть Сербии и Валахии, уступила Белград и Оршову, обязавшись собственными войсками срыть укрепления Белграда.
Россия ничего не получила, несмотря на свое грозное положение и победоносную кампанию. Напротив, в договоре турки отказались признать за Анной Иоанновной императорский титул и, кроме того, упорно называли русское государство Московским.
А между тем трудные походы через Украинские и Бессарабские степи, при плохом продовольствии, кровопролитные сражения, всевозможные болезни и лишения походной жизни уменьшили состав наших армий почти наполовину.
В вознаграждение всех наших потерь, султан согласился срыть до основания Азов, но с тем, чтобы он оставался нейтральным местом, затем уступить нам степь между Бугом и Донцом, отказаться от Запорожья, с которым Турция все равно ничего не могла поделать, и предоставить русским купцам отправлять товары в Черное море, но не иначе как на турецких кораблях. Россия возвратила Порте Очаков, Хотин и обязалась не беспокоить крымского хана…
Известие о мире, как громом, поразило Миниха среди его торжества — покорения Молдавии и приготовлений к дальнейшему походу, известие, по его выражению, «нечаянное и печальное мира стыдного и предосудительного».
«Бог судья, — писал он в Петербург, — римско-цесарскому двору за таковой, учиненный к стороне вашего величества нечаянный злой поступок, и за стыд, который из того всему христианскому оружию последует, и я о том поныне в такой печали нахожусь, что не могу понять, как тесный союзник таковым образом поступить мог».
Но такие письма не могли омрачить веселости Петербургского двора.
«Фельдмаршал Миних — прирожденный воин, ему бы только воевать, но высших соображений государственной мудрости он не понимает» — так думал и говорил Бирон императрице, так думала и она сама, и все окружающие.
Народ радовался фейерверкам по случаю побед и мира, гуляньям, пальбе из пушек, даровым угощениям.
Высший круг веселился на маскарадах, следовавших почти непрерывно один за другим, и все торжествовали блистательные победы русского оружия.
По рукам ходила ода на взятие Хотина, присланная из-за границы от русского студента Михаила Ломоносова, изучавшего в Марбургском университете математику, философию и физику под руководством знаменитого философа Вольфа.
Впервые на Руси появилась гармоничная поэтическая речь, и русские, словно не узнавая своего родного языка, изумленные и очарованные, повторяли строфы из его оды:
Шумит с ручьями бор и дол:
Победа, русская победа.
Но враг, что от меча ушел,
Боится собственного следа.
Тогда увидев бег своих,
Луна стыдилась сраму их
И в мрак лицо, зардевшись, скрыла.
Летает слава в тьме ночной,
Звучит во всех землях трубой,
Коль русская ужасна сила.
Императрице шел уже сорок седьмой год, но она все еще хотела казаться молодой, хотя сильно отяжелела. Иногда у нее опухали ноги, мучила боль в боку. Она с удовольствием посещала балы и маскарады, в угоду Бирону каждый день каталась верхом в манеже и била из окон своего дворца из мушкета летавших в парке птиц. Но несмотря на ее очевидное стремление развлекаться, она под влиянием постоянного раздражения печени часто хандрила, раздражалась, и только дуры и шуты, окружавшие ее, своим уродством, грубыми драками и шутками вызывали порою на ее обрюзгшем лице улыбку недолгой веселости.
Главнейшие празднества заключения мира были отложены до ратификации договора.
Семейство Кочкаревых, прибыв в столицу, по совету Астафьева, остановилось временно до подыскания соответственного помещения за городом, в предместье, Аничковской слободе, в доме Апатьевой, вдовы корабельного регистратора, имевшей там нечто вроде гостиницы для приезжающих в столицу.
В то время границей города считалась Фонтанка, левый берег которой представлял собою предместья.
Вся часть, занимаемая теперь Владимирской улицей, Загородным проспектом, Разъезжей улицей и далее, была покрыта лесом, с прорубленными по распоряжению полиции просеками, «дабы ворам пристанища не было».
Кроме Аничковской слободы, в лесу стояли дачи вельмож Шереметевых, Апраксиных и других.
Въезд в город с этой стороны был через деревянный подъемный Аничков мост, близ которого помещался караульный дом для осмотра паспортов у лиц, въезжавших в столицу.
Устроив кое-как Кочкаревых, Астафьев поспешил в город явиться начальству и потом подыскать для Кочкаревых подходящее помещение.
Явившись в полк, Астафьев узнал, что генерал Бирон еще не вернулся из похода, но что его ожидают со дня на день. Узнал он также, что никакой жалобы на него пока еще не поступало. Он побывал еще кое-где в офицерских кружках.
Везде говорили о только что окончившейся победоносной войне. Все были веселы и радостно настроены. Говорили о том, что императрица чрезвычайно довольна, что теперешние торжества ничего еще не значат перед теми, какие назначены по ратификации договора. Ожидаются чрезвычайные милости не только для участников похода, но и для народа. Говорили, что государыня хочет отпустить недоимочные долги.
Вообще, подъем духа был большой, и надежд было много. Еще передавали шепотом, что положение Бирона как будто пошатнулось, что государыня отказалась утвердить несколько его приговоров, а положение Волынского крепнет.
При таких вестях Астафьев воспрянул духом.
«Забудут обо мне на радостях», — думал он и энергично принялся отыскивать подходящее помещение для Кочкаревых.
Надо было найти такую квартиру, чтобы в ней не стыдно было жить родовитому и богатому дворянину.
Астафьеву было известно, как строго следила императрица за тем, чтобы дворяне поддерживали свое достоинство, как она понимала его, то есть имели и хороший выезд, и хорошие костюмы, и хорошее помещение. От жен и дочерей дворян она требовала, чтобы на каждое празднество они непременно являлись в новом наряде.
Кто не мог удовлетворять этим требованиям, тому нечего было и стараться попасть ко двору, а тем более — привлечь к себе внимание.
Анна Иоанновна сама любила роскошь и изумляла иностранцев великолепием своего двора. Секретарь французского посольства, Маньян, писал: «Я был при многих дворах, но могу уверить, что здешний двор своею роскошью и великолепием превосходит, даже самые богатейшие, не исключая французского!»
Прежде, во времена Петра I и Екатерины, богатство проявлялось в жизни только возможностью получше принять, накормить и напоить. Теперь же этого было мало. Теперь нужны были великолепные выезды, дорогие заграничные костюмы.
Знать мало-помалу начинала разоряться. Все эти затраты требовали наличных денег, а их вообще было на руках немного, так как прежние потребности могли удовлетворяться продуктами своих вотчин и работами доморощенных ткачей и портных. Приходилось продавать деревни, чтобы тянуться за двором.
Дворянство беднело, а тут еще меры Бирона по сбору подушных разоряли крестьян, основу благосостояния дворянства.
Жить становилось все труднее.
Но дело Кочкарева было слишком серьезно, если бы дали веру доносу Бранта, и потому, скрепя сердце, он просил Астафьева порекомендовать ему посредника для продажи одной из небольших своих деревень, чтобы быть в состоянии прожить с достоинством в столице до весны. Астафьев и за это взялся с удовольствием.