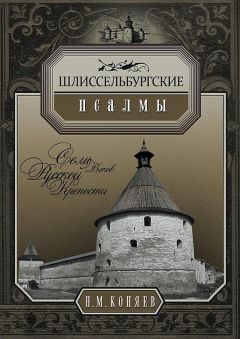— Чем ты похваляешься, гетман?
— Объясняю тебе, что мы с тобой — одного поля ягоды. Ты ведь такой же, как я. Оба хотели жить побогаче, есть пожирней, строить себе дома повыше, подвалы поглубже, а в подвалах чтобы было побольше сундуков с золотом, я оказался умнее, ты — глупее. Пошел жаловаться царю Петру. Смешной человек! Царь ни словам, ни слезам не верит.
— Чего ты сейчас от меня хочешь, Иван? Мало тебе моей крови и позора? Зачем ты явился мучить меня перед смертью?
— Для своего удовольствия, — ответил Мазепа. — Мне приятно понимать, что я хоть на год проживу дольше тебя. Понимая это, я чувствую себя моложе. Да и многие другие чувства владеют мною, государев преступник Василий Леонтьевич Кочубей. Например, я все больше убеждаюсь, что никакой божьей кары нет, а высшего суда — тем более.
— Так есть земной! — закричал Кочубей. — Есть земной суд. Погоди, сбежит из Сибири Семен Палий. Он тебя на краю земли достанет.
— Не сбежит! — покачал головой Мазепа. — У царя Петра тюрьмы крепкие. Но Палий — серьезный супостат. Мнит себя святым и защитником Украины. Такие люди опасны. Их лестью не возьмешь и золотом не купишь. Но чует мое сердце: не только тебя, но и Палия я похороню.
— Негодяй ты, Иван Степанович!
— Может быть, Василий Леонтьевич. Почему мне не быть негодяем? Разве другие лучше? В чем был повинен бедный Самойлович? Вспомни, как ты обвинял его перед князем Голицыным, а Самойлович топал ногами и кричал, что ты врешь… Ведь правду он говорил: подвирал ты слегка. Но то был твой главный в жизни час. А теперь настал мой. Ты не завидуешь?
— Ненавижу. Завидовать нечему.
— Почему же? Тебя казнят, а я еще поживу. Меня твоя дочь Мотря любит. Каждому ли старцу выпадает такое счастье, чтобы его юная дева так любила?
— Зато и свел ее с ума своими письмами?
— Не я ее свел с ума, а ты со своей женой. Недаром же она вам в лицо плевала: Оставили бы нас в покое, Мотря была бы жива и здорова. Смеялась бы сейчас, а не плакала. Ты остался бы генеральным судьей. Может быть, я тебя с собой к шведу забрал бы.
— Оставь меня в покое, Иван Степанович! Христом богом заклинаю!
— Потерпи. Скоро уж отмучишься. Послушай, Василий Леонтьевич, а тебе не кажется, что на нас, хоть мы будто бы одни, еще кто-то смотрит и все разговоры наши запоминает?
— Уйди! — простонал Кочубей. — Без тебя муки хватает.
— Ах да, я и забыл, что по тебе кнут погулял. Вот уж вправду сытый голодного не понимает! Меня сейчас другое занимает. Я как бы вижу все со стороны. Два старика. Один, битый палками и кнутом, лежит на лавке. Второй сидит рядом с ним и странные речи заводит. Так ясно все это вижу, Василий Леонтьевич, будто сам за собою подглядываю. И когда Мотрю твою целовал, тоже сам себя, как в зеркале венецианском, видел. Интересно и страшно.
— Будь ты проклят!
— Да уж проклинал ты меня. Заговариваешься… Не прыгай, как рыба на сковороде. Осталось недолго. Потерпи. Будь настоящим казаком. Казак смерти бояться не должен. Она все равно косой над тобой замахнулась. Теперь уже не спасешься.
Гетман долго глядел на задыхающегося Кочубея, гладил свою седую, уже с желтизной бороду. Потом поднялся и вышел.
Утром 14 июля на площади в Борщаговке Кочубея и Искру обезглавили. Тела их лежали до окончания службы в церкви, чтобы народ видел, что случается с теми, кто решается доносить на гетмана. К вечеру их положили в гробы и отвезли в Киев. Через три дня тела Кочубея и Искры предали земле во дворе Печерского монастыря, подле Трапезной церкви.
Мы с вами уже знаем, что в начале XVIII века письма реже слали с голубями, а чаще с курьерами. Но все же почтовые голуби сохранились. Их удобно было посылать на небольшие расстояния, особенно в пределах одного города. Панна Мария дала Василию двух голубей. Они сидели в его комнате, в большой проволочной клетке. Голубей можно было держать в клетке не больше недели. Затем они «притомлялись». Их надо было заменять другими из той же голубятни, а обитателям клетки дать возможность отдохнуть, полетать и размять крылья.
В один из августовских дней 1708 года голубь принес панне Марии от Василия записку такого содержания:
«Возле Вашего дома бродит очень странный человек с повязкой на глазу. Появляется он в городе по утрам. К ночи исчезает. Имени его установить не удалось. Но можно предположить, что это один из партизанов Лещинского или же самого короля шведского. Будьте осторожны».
А письмо, которое вы прочитаете ниже, так никогда и не было отправлено. Его написал Даниил Крман 15 июля 1708 года своему приятелю Ивану Калишевскому в Пряшев. Но поскольку оказии переслать его так и не случилось, Крман возил все написанные в странствиях письма с собой.
«Любезный мой Иван!
Спешу сообщить тебе, что с божьей помощью мы прибыли наконец в лагерь шведского короля в Могилеве. Долгой была дорога и мучительной. Только в Кенигсберге провели мы несколько спокойных дней в отличной гостинице, где хорошая кухня и тихие комнаты для постояльцев, с видом на реку Прегель, по которой на канатах тянут суда от моря к городу. В Кенигсберге улицы мощены хорошим камнем и содержатся в чистоте. На возвышении стоит красивый королевский замок, а напротив него, на острове, образуемом двумя рукавами Прегеля, — кафедральный собор красной кирпичной кладки. В двух шагах от королевского замка — знаменитый Кенигсбергский университет, в стенах которого приобщались к истине многие столь славные ученые мужи. И мне захотелось снова стать студентом, почувствовать себя человеком, у которого будущее еще впереди…
В общем, Кенигсберг показался мне раем земным, если бы только не постоянные северные ветры с моря. Но горожане столь, догадливы, что улицы строят не прямыми, а с частыми поворотами. Это помогает удерживать ветры. Но надо было спешить. Мы направились в Вильно, а оттуда через Слободку, Уперевичи, Борисов и к Днепру. Путь пролегал через лесистую и болотистую местность. В селах рядом с католическими костелами можно было видеть униатские и православные церкви. В Головчине над речкой Выбычей мы видели место недавней битвы между шведами и московскими войсками.
Все поле от Головчина до Могилева было усеяно трупами погибших шведов и русских. Мы с удивлением отметили про себя, что благочестивый шведский король не распорядился с почестями предать земле павших своих соотечественников. Надо думать, он очень спешил настичь русские войска, дать им решающую битву и занять Москву.
Теперь подробнее о нашем первом свидании с королем. Состоялось оно не сразу. Поначалу нам навстречу вышел обозный по имени Магнус и отвел к королевскому духовнику и президенту военно-церковной консистории доктору Мальбергу. После короткой беседы нас представили министру графу Пиперу, человеку холодному, надменному и недоверчивому.
«У нас нет уверенности в том, что письмо от Ракоци не поддельное, — сказал нам Пипер. — Однако королю мы о вас доложим. А пока будьте любезны побеседовать часок-другой с королевским секретарем Олафом Гермелином. Думаю, это будет поучительная и небесполезная беседа».
Не знаю, что имел в виду граф Пипер, обещая интересную беседу, ко королевский секретарь измучил нас расспросами о том, кто мы такие, откуда родом, почему решили обратиться за помощью и защитой именно к шведскому монарху. Беседа была столь утомительной и долгой, что под конец ее у меня закружилась голова. Я едва не рухнул на пол. Удержался, схватившись за края дощатого стола.
Лишь через день, в полдень, принял нас сам король. Он был в простом сюртуке, походных сапогах, коротко острижен, без парика. Среди тех, кто его окружал, король отличался не пышностью, а простотой одежды. Он молча кивнул нам. И я начал заранее продуманную речь, в которой, надеюсь, убедительно описал тяжелое положение словацких и мадьярских протестантов, ожидающих помощи и протекции от благочестивейшего, могущественнейшего и самого смелого из королей. Мне кажется, что говорил я хорошо, с внутренним жаром. Чувствовал, что у самого в груди все дрожит, а сердце от волнения подкатывает к горлу. И опять, как давеча, закружилась голова. Я даже побоялся, что упаду перед королем на пол и не закончу своей речи. Именно страх, что я не скажу всего того, что обязан сказать, подхлестнул мою волю. Я глубоко вдохнул всей грудью, секунду помолчал и собрался было продолжить, но король поднял руку;
— Все ясно. Наше решение узнаете завтра через Гермелина.
Ответ был для нас столь неожидан, что мы растерялись и поначалу не знали, как поступить. Уж не разгневали ли мы чем-либо этого сурового человека? Хорошо еще, что я догадался вручить секретарю короля мемориал о состоянии дел в нашем крае.
Наутро мы получили ответ короля — несколько вежливых фраз, обещание поддержки и совет уповать на господа.