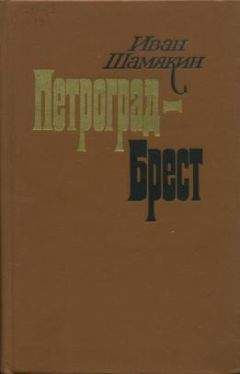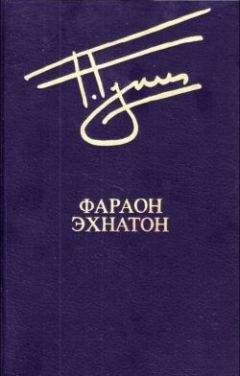— Хочу проследить аналогии. И понять: сколько времени продержатся большевики?
— Если они заключат мир и осуществят Декрет о земле… дадут землю и волю — такая власть будет вечной.
Бульба удивился и спросил, казалось, с угрозой:
— Ты что? Вступил в их партию?
— Нет. Пока что не вступил.
— Черт с тобой. Вступай. Разрешаю. В свою партию не буду агитировать, пока не встану во главе ее. Дерьмовые у нас лидеры. Кретину Керенскому большевики гениально саданули солдатским сапогом под зад.
Вылетел как пробка. Так ему, идиоту, и надо. Я что ему говорил? Делай меня министром внутренних дел — я тебе наведу порядок. Так он даже полковника пожалел. А потом ждал от меня поддержки. А вот тебе, — Бульба сложил кукиш. — Свистун! Институтка! Педераст!
Богунович слышал раньше о его беседах с бывшим премьером и не очень верил в эти байки. А тут поверил. Если они с Керенским действительно старые знакомые, то Назар Любецкий, бесстрашный террорист, мог сказать что угодно, мог потребовать у лидера своей партии любой пост.
— И как бы ты наводил его, порядок? Вешал бы?
Бульба ответил с шутливым укором:
— Свинья ты, Сергей. Пьешь мой коньяк и думаешь обо мне как о Муравьеве. Никак бы я его не наводил — и был бы порядок. Порядок там, где его никто не наводит.
— Значит, анархия — мать порядка?
— Не повторяй чужие слова. Анархистом меня назвала твоя мадонна в шинели. Легко отдалась?
Больше всего Богунович не любил пошлости в мужских разговорах о женщинах, даже окопная жизнь не испортила его; пошлость по отношению к Мире особенно задела. Опасаясь, как бы Бульба не сказал чего-нибудь похуже, деликатно попросил:
— Не нужно, Назар. Я люблю эту женщину. Она — моя жена.
Бульба-Любецкий удивился:
— Нет, ты это серьезно? Женился? В наше время! Идиот!
— Чем худо наше время? Кончаем войну. Начинаем новую жизнь.
— Легко ты ее кончаешь, войну-то. И что думаешь делать в этой новой жизни?
— Поедем куда-нибудь в наше белорусское село и будем учить детей. Крестьянских детей. Сеять разумное, доброе, вечное.
Бульба всмотрелся в него, недоверчиво спросил:
— Ты издеваешься надо мной?
— Абсолютно серьезно.
Хозяин налил коньяку и, не предлагая, за что выпить, минуту молчал, всматриваясь в камин, потом поднялся, не торопясь, бросил в огонь одно, другое березовые поленья, оттуда, от камина, сказал;
— Завидую я тебе, Богунович. Цельный ты человек. А я… я сломан. Душевно. Я когда-то тоже любил. Ее замучили, сволочи. В тюрьме. Умерла от чахотки. Нет! — сказал решительно, упав на турецкий пуфик. — Я не готов учить детей. Мне хочется еще почистить мир от дерьма маузером и пулеметом. Нет. Я не убийца! Я ассенизатор. Выпьем. За тебя. И за нее. Она колючая, как ерш, но… В конце концов, каждый защищается как умеет.
Выпили.
Богунович спросил:
— Назар, у тебя есть шампанское?
— Тебе захотелось шампанского?
— Нет.
— Подожди. Ты хочешь справлять свадьбу?
— Нет, встретить Новый год. Она никогда не пила шампанского.
— Боже, какая святая чистота и наивность! Но это же буржуазные штучки, Сергей, — шампанское. Проклятая буржуазия! Как она нас разложила! Не приживемся мы у пролетариата. Выплюнет он нас.
— Не юродствуй. И помоги мне в одном: одеть ее потеплее. Тепло не помешает и пролетарию.
— Что хочешь? Шубу? Пальто?
— Нет. Шубу она не наденет. Кожушок какой-либо… казацкий.
— Будет тебе кожушок. Хочешь, женское белье дам? Французское. Крик моды тринадцатого года. Крик перед потопом.
— Где ты все это берешь? Бульба засмеялся.
— Ты не читаешь Маркса. Есть у него понятие: экспроприация экспроприаторов. Только большевики замахнулись на мировую экспроприацию, а я это делаю локально. И бескровно. Собираю дань со здешних торговцев. Почистил немецкие склады. — Бульба хохотнул, но тут же помрачнел. — А вообще все дерьмо, Сережа. Я никогда ничего не боялся. А тут сижу и со страхом думаю… Подпишут мир. Разойдутся последние солдаты. А я куда? Губернаторов и полицмейстеров не стало. Кого стрелять? Пойти на службу к Маше Спиридоновой? Можешь ты представить меня Машиным адъютантом? Смех. Хотя она единственная эсерка, которую я уважал. Когда-то мы с ней заключили пари: кто больше отстреляет сановников. Добраться разве до монархиста Каледина? Шлепнуть его? Или с Савинковым свести старые счеты? Но… устал я. Или обуржуазился… от такой жизни. Может, в это… как его большевики назвали? — Чека податься? Говорят, они вылавливают бывших жандармов и министров, как бездомных собак. Но ловить типов, лишенных власти… Бр-р. Не по мне такая работа. Мертвечина. А я люблю живое дело. У меня казацкая кровь. Мне вольным атаманом нужно быть. Только где разгуляться?
Начальник станции Пятрас Баранскас скучал без дела. Станция была в двух километрах от переднего края, и через нее давно не шли поезда. А когда-то, до лета семнадцатого, когда фронт проходил под Лидой, эта маленькая станция казалась ему не менее значительной, чем узел Молодечно. Проследование спецпоезда с мирной делегацией, который не только дошел до станции, но пошел и дальше, на немецкую сторону, к Брест-Литовску, было для старого служаки событием, всколыхнувшим настолько, что он как бы пробудился ото сна. Раньше ходил небритый, не по форме одетый. А тут побрился, почистил мундир, фуражку, фонари, стрелки, стяжки, жезлы. Каждый день сам расчищал снег, других служащих на станции осталось человека три, не больше; телеграфистами были военные. Баранскас словно готовился к празднику или к большой ревизии. У него начались даже ссоры с женой, возможно, потому что жену и дочь он начал заставлять работать — чистить, мыть.
Раньше Богунович никогда не слышал в доме голоса хозяина, да и хозяйка говорила приглушенным шепотом. Только их шестнадцатилетняя дочь Юстина иногда повышала голос на мать или пела.
Пани Альжбета была полька со всеми отличительными качествами правоверной католички и шляхтинки. Не в пример своему мужу, выбившемуся из мужиков, она ненавидела хамов. Кроме всего прочего, таила обиду на русских. При приближении фронта ей с дочерью пришлось уехать в глубь страны вместе с миллионной армией таких же беженцев. Там, в голодной России, хватила пани начальница лиха и, видимо, не смогла разобраться, где обида исходила от людей, а где от чиновных разбойников, раскрадывавших те мизерные крохи, что отпускались для несчастных беглецов по царской милости или из филантропии вельможных патронесс, демонстрировавших свой патриотизм пожертвованиями на госпитали, на беженцев. Пани Альжбета добилась возвращения назад, к мужу, хотя фронт стоял у самой станции и во время военных действий им с дочерью приходилось подолгу сидеть в холодном блиндаже за пакгаузом. Но она объявила с решительностью прирожденной польки: лучше умрет от немецкого снаряда, чем еще раз бежать.
На ее беду, красивому поручику вздумалось поселиться не в фольварке, а в доме начальника станции. В свои неполные сорок лет она сама еще втайне засматривалась на молодого командира полка. А потом заметила, что в него просто-таки влюблена эта дурочка Юстина. Альжбета испугалась за дочь и не спускала с нее глаз. Далеко ли до беды? У фронтовых офицеров не осталось ни чести, ни совести.
Но вдруг появилась маленькая, ладно скроенная агитаторша, и пан поручик сошелся с ней. Сначала Альжбета порадовалась: как бы отдалилась угроза от ее Юстины. А потом оскорбилась в своих чувствах правоверной католички: такой деликатный, культурный, образованный офицер привел в ее дом эту иудейку, с которой не венчался, не мог обвенчаться. Кто она ему? Пусть бы хоть объявил женой перед людьми! Будь ее дом не казенный, Альжбета показала бы им на дверь. Но как покажешь, когда в военное время хозяин всего казенного — станции, дома начальника — он, командир полка, что держит оборону. Плюнуть бы на все, да ее Пятрас никуда не поедет. Да и куда ехать? Двадцать лет проработал на этой станции.
А потом Альжбета снова испугалась за дочь, увидев, с какой враждебностью та начала относиться к Богуновичу и к агитаторше. Можно было бы, пожалуй, радоваться что у Юстинки, как и у нее, матери, столь велика верность богу и своему чувству. Но она же глупая совсем, дитя, как бы не натворила беды — не сделала что над собой или не подстроила им, квартирантам.
Богунович тоже сразу почувствовал перемену в отношениях к себе матери и дочки. Но если спесивая неприязнь пани Альжбеты немного забавляла, то злой, как у обиженного зверька, огонь в глазах Юстины, вечно старавшейся прошмыгнуть мимо, не ответив на «здравствуйте», отравлял его счастье с Мирой. Женщин невозможно понять. Сначала и Мира не соглашалась идти на квартиру к начальнику станции. А теперь враждебность хозяйки и ее дочери начала словно бы и нравиться ей. На их враждебность она отвечала подчеркнутой вежливостью.