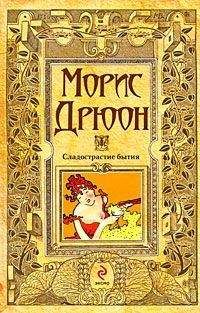Она надеялась найти покой в бухте Форментор на Балеарских островах, но не смогла вынести и трех дней пребывания там из-за того, что у нее не было спутника, с кем она могла бы вместе вбирать в легкие теплый влажный воздух и гулять под сенью цветущего миндаля, из-за того, что не было рядом никого, на чье плечо можно было бы положить голову, любуясь морем. Стоя на берегу, она чувствовала свое одиночество, словно увечье, словно крах. Холодный блеск звезд отлучал ее от остального мира. Под ногами лежала чужая планета.
– Я страдаю от замкнутости в самой себе, – сказала она Кармеле, вместе с которой приехала в Севилью на Святую неделю.
Кармела так и не узнала, кем же из знатных испанских дам она была в тот вечер. Стоя рядом и опершись на ограждение террасы, они смотрели, как по улице Бокка ди Леоне шли не продавцы маслин, а процессия кающихся грешников в высоких колпаках. Вдруг Лукреция воскликнула:
– Ад и рай внешне ничем не отличаются. Ад – это когда бродишь по раю, а чувствуешь себя несчастным.
Она ужинала в разных местах со старыми, вышедшими в тираж холостяками, которые хотя и говорили еще про любовь, но заниматься ею уже не могли и которые, напичкав ее во время приема пищи рассказами о своих былых подвигах в постели, расставались с ней на пороге ее комнаты, вежливо пожелав спокойной ночи.
За зиму, тянувшуюся очень долго и напоминавшую сумерки, она перебывала на всех коктейлях эстетов, организованных за бешеные деньги в погребках Левого берега молодыми американскими педерастами, которые усаживались в кружок у ее ног и созерцали ее словно историческую редкость.
Всякий раз, бывая в Париже, она говорила Кармеле:
– Продай, продай моего Ренуара… Продай мебель из квартиры на улице Талейрана. Возьми все, что тебе нужно, моя маленькая Жанна, а остальное положи в мой банк.
В Лондоне она встретила Тейфика Хальфази, оскорбила его, ушла, но потом вернулась, увлекла его в Довиль, куда попросила приехать и Жанну, для того чтобы прервать монотонность их полного ненависти существования вдвоем. В зеркалах отеля «Нормандия» она увидела трио, которое они собой являли.
– В этих белых одеждах мы похожи на трех старых вьюнков, выросших вокруг ножек табуретов в баре и переплетающихся для того, чтобы поддерживать друг друга до конца наших дней. О нет! Нет! Это невозможно!.. А ведь я жила так, как и следовало жить. Я не испытываю ни страха, ни радости, ни страданий. Я всем рисковала, ничто не могло меня остановить. А как старели знаменитые женщины? – вскричала она, схватив Кармелу за руку.
Не только юность ищет успокоения в Истории. Существа, стоящие на краю могилы, любят вспоминать о том, что Гёте самые прекрасные свои стихи написал в восемьдесят лет и что Нинон де Ланкло в таком же возрасте еще занималась любовью. А как кончили жизнь Жорж Санд, госпожа де Сталь, Екатерина Великая?
– Да, но они жили как мужчины. Я же жила жизнью женщины, исключительно женщины.
Она продолжала держать Кармелу за руки.
– Видишь ли, Жанна, – сказала она, – мы страдаем от ужасной несправедливости. Когда мы больше не можем уже внушать мужчинам любовь, мы ничего не стоим. Люди продолжают чтить писателей, которые ничего больше не могут написать, врачей, у которых больше нет сил лечить больных, государственных деятелей, которые больше не могут ничем управлять. А нам, доставлявшим мужчинам ощущение того, что они живут полнокровной жизнью, нам, вдохновлявшим их на создание шедевров, нам, составлявшим мечты мужчин, их гордость и их награду, нам, кого прославляли именно за то, что мы были, что же остается нам, когда тело наше нас предает и мы не можем больше играть свою роль? Мы становимся бесполезными, как герои, которые не погибли. Нам следовало бы закрыться в комнате, замуровать окна…
«А может быть, и я уже стала немного сумасшедшей?» – задавала себе вопрос Кармела.
Навязчивое, тираническое любопытство тянуло ее в номер к Санциани, едва у нее выпадала свободная минутка.
Она сама себе назначала время этих свиданий. «Я пойду к ней после того, как приберусь во всех комнатах». Но когда она переворачивала матрацы, встряхивала простыни и чистила умывальник, ее не покидало нетерпение и страх оттого, что она пропустит главную сцену спектакля.
Все прочие клиенты – их звонки вызова, голые груди американки, вечный беспорядок в номере киноактрисы, – все это составляло часть серой обыденности. Главным для нее была дверь номера пятьдесят семь. Она казалась ей шире, чем другие двери, массивнее их. Она знала каждую планку, каждый кусочек отвалившейся краски, каждую заделанную замазкой трещину. Ей была хорошо знакома упругость замка и тихий щелчок под ладонью, который она ощущала, когда медленно поворачивала ручку для того, чтобы узнать, что с графиней.
Для того чтобы входить к Санциани, ей больше не нужно было искать повода.
Между ними было заключено молчаливое соглашение, некое сообщничество, позволявшее им обеим жить в нереальном мире.
Едва Кармела входила в комнату Санциани, как та принималась рассказывать ей свои сны. И девушка уже знала несколько уловок, позволявших ей включить по своему желанию и для себя одной этот большой автомат воспоминаний о прошлом.
Кармеле удавалось увидеть отрывки бесконечно длинного фильма, прокручивавшегося в мозгу старой дамы, и в этих эпизодах девушка бывала одновременно и зрительницей, и исполнительницей одной из главных ролей. «За кого она примет меня на этот раз?» – всегда думала она с некоторым волнением, входя в номер графини. Кем ей суждено стать? Банкиром, герцогиней, актрисой? В каком сказочном городе придется прожить ей целый час, какое богатство будет она держать в руках?
Иногда она уходила разочарованной, поскольку ей не удавалось ничего понять либо потому, что бред Санциани был слишком несвязным, либо, наоборот, ее словесный поток был переполнен подробностями. Кармела запоминала по одной фразе, по одному образу, по одному слову и прокручивала их в голове весь вечер подобно тому, как люди вертят в пальцах чем-то понравившийся камушек.
Что такое «зимородок»? Дерево или птица? И кто такая эта Жанна, за которую ее так часто принимает графиня? Был ли у нее тоже титул, драгоценности, борзые и вышагивала ли она королевской походкой рядом со своей подругой Лукрецией? Да, разумеется, королевской. Но Жанна должна была быть пониже, посмуглее и черноволосой. Кармела так вошла в образ этой Жанны, что стала представлять ее похожей на себя или, скорее, представлять самое себя такой, какой она могла бы быть, если бы родилась в среде князей мира.
«Я на нее похожа, это точно, – думала она. – Именно поэтому графиня и обращается ко мне, как к ней. Жанна умерла, а душа ее вселилась в меня при моем рождении».
Кармела стала думать, что никогда не чувствовала себя принадлежавшей к той породе, что никогда в ней не текла та же кровь, что у ее братьев и сестер. «Никто не сказал бы, что у нас с ними одни родители». Она чувствовала, что является загадкой для самой себя. У нее была какая-то тайна, или, скорее всего, она сама была тайной. Бывали случаи, когда в самых бедных семьях рождались святые и королевы. Эта маленькая родинка на краю лба была знаком, отметиной звезд. Придет день, и ее по этому знаку найдут, и она предстанет перед всеми в пышном белом платье, а вокруг ее головы засияет нимб. Ее будут любить, ею будут восторгаться. Она станет богатой. А потом она остановит свою огромную машину на одной из сумрачных улочек Трастевере и осыплет благодеяниями свою семью, как приемных родителей, будто нашедших в горах и приютивших заблудившегося королевского ребенка. Она родилась в семье почтового служащего, подобно Иисусу, которому вольно было родиться в семье простого плотника. Ее рождение представлялось ей действом, произошедшим по ее собственному желанию. «Я захотела родиться там», – сказала она самой себе. И с этого момента она начала чувствовать себя единственной, даже божественной. Она подолгу рассматривала свои тонкие голубые вены на локтевой впадине, они напоминали ей реки на географической карте. И ощущение жизни переполняло ее, совпадая и смешиваясь со всем миром. Она часто повторяла себе: «Я – Кармела, я – Кармела, я – это я…» – и эти слова составляли самую вершину священной пирамиды.
Она не смогла бы объяснить ни то ощущение легкости, от которого у нее временами появлялась почти нестерпимая радость, ни тем более причин, по которым при виде того же самого открытого окна, того же самого уголка ковра, той же самой выставленной в коридор обуви горло ее внезапно сковывали рыдания.
О Джино она уже больше не думала. Ему не было места ни в ее мечтах о величии, ни в непонятных приступах страха. Правда, иногда он возникал где-то в уголках памяти, но быстро исчезал. Образ мужчины, с которым она связывала свой будущий успех, был пока неясен и многолик. Это были скорее «несколько мужчин в одном лице», а не какой-то конкретный человек. Он был частью щедрости, коллективной силы, одним из тех, кто должен был однажды выделиться из общей массы и явиться к ней в качестве посланца небес. Если бы понадобилось представить себе внешность этого посланца, то она хотела бы, чтобы он был похож на Марио Гарани. Но на доктора Гарани, окруженного богатством, имеющего все привилегии и почести в этом мире. И этот воображаемый доктор Гарани должен был непременно обратить на нее свой взор.