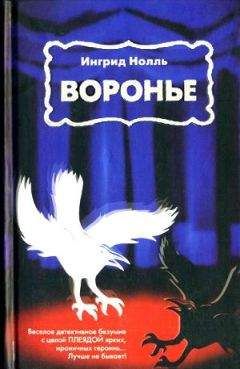– Любо! – закричал Афонька Борода и, выскочив из-за стола, стал пристукивать высокими каблуками по полу. Казаки быстро усадили его на место.
Царь повелительно и грозно повел очами, заставив всех сесть на свои места.
– Воров да разбойников вроде Гришки Волконского, – сказал государь, – царской волей буду карать и впредь! Нам без порядка жить не мочно… Бояре, слышите? – неожиданно сильный и гневный голос царя прозвучал под сводами Серебряной палаты. – По всей Руси ведомо, что стали мы царем по вашему же прошению, а не своим хотеньем. Выбрали вы нас, государя, всем государством, крест целовали своей волей, обещались все служить и прямить нам, а теперь везде грабежи творят да убийства, разные непорядки, о которых нам докучают; так вы эти докуки от нас отведите и все приведите в порядок.
– Любо! – снова крикнули казаки. Бояре растерянно молчали.
Высоко подняв голову, атаман сел напротив Левки.
Детина с мелкими кудрями торжественно поднес вино заморское, пенистое и сладкое. Наливали то вино в особые чаши. Царь надпил чашу и переслал ее Старому. Атаман жадно глотнул из царской чаши и передал ее Левке, Левка, хлебнув малость, передал царскую чашу Афоньке, тот – Ивашке, Ивашка – Федору… И так пошло по кругу.
Но Старой, нарушив обычай пить царскую чашу последней, поднялся с другой чашей – в честь царя. Он справил нижайший поклон и поднял высоко донскую чашу, которую привез с собой. Царю поднесли ее, он выпил. А после того царь слегка поклонился боярам и медленно пошел к выходу.
Казаки давно уж смекнули, что на царском званом обеде не было почему-то князей Курбских, Холмских, Никулиных и Пеньковых, Голицыных и Салтыковых.
В палате остались с казаками бояре и князья Милославские, Воротынские, Стрешневы, Нарышкины, Боборыкины, Лыковы и Языковы. Они расспрашивали о делах на Дону, допивали вино, прислушивались и доедали оставшиеся на широких царских столах богатые яства. Не скоро веселые князья и бояре вышли из палаты покачиваясь, пошатываясь, обнимаясь друг с другом.
Последними ушли в Белый город казаки со своим атаманом. Те были совсем веселые. Шли по Москве и пели песни, словно в своем Черкасске-городе.
На улицах путь их освещали плошки, бочки со смолой, горевшие дымно и чадно.
Царь Михаил встал вместе с зарей. К нему сейчас же явился духовник, а за духовником внесли икону святого, который праздновался в тот день. Перед внесенной иконой и перед другими иконами в Крестовой палате затеплились яркие свечи.
Царь молился в этот день долго и усердно.
Горбатый и молчаливый свечник Амбросий следовал за царем всегда как тень. Духовник окропил царя святой водой. Святую воду принесли в Крестовую палату сегодня, а привезли ее из далекого и знатного Соловецкого монастыря.
Потом пошел к своей матушке и отправился с нею в теремную церковь к заутрене.
После заутрени Марфа Ивановна молвила царю:
– Ты бы, Михайло, принял в Престольном тереме, без лишних очей боярских, донского атамана и казаков. Выслушай-ка атамана. Повыведай у него о всяких делах и помоги казакам на Дону. Не пожалей пороху, свинцу, жалованья. Все к делу пойдет. Приласкай. Пообещай награды атаманам за службу нам верную. Смелее действуй! Сила растет на Дону великая и опасная. Помни, Михайло, куда постоянно бегут холопы со всех российских городов, – на Дон! Эту силу к рукам прибрать надо. И там же, на Дону, – помни, – даровое войско. Ты же, царь, власть свою из рук не выпускай.
– Но, матушка, – с опаскою ответил ей царь, – бояре нам шум учинят… Царь-де заодно с казаками идет…
– Какие-такие бояре? – нетерпеливо возразила Марфа. – Родство – бояре Салтыковы аль Лыковы? Им-то что надобно? Пожалованной земли мало Салтыковым? Ну, если загалдят, ты на них и прикрикни. Мало ли они нам пакостей учинили? Иные бояре всякий вздор и напраслину на казаков несут, оговаривают их… Слушай меня. Донские дела важнее многих дел.
– Матушка, помилуй! – встревожился Михаил. – Бояре нас поедом съедят. Аль ты не помнишь, матушка, бумагу, что дал я им?
– Бумагу ту помню, – мягко сказала Марфа Ивановна. – Но ты поменьше о бумагах мысли, а делай дело и знай всегда свое. Бояре все на перечете, а черни сколько на Руси? Чернь кормит нас! Не забывай об этом.
Царь поглядел смущенно на Марфу.
– Матушка, – напомнил он слезно, – бумага та клятвенная. И ты сама клятву внушила мне. Они от нас письмо взяли, когда я шел на царство… «чтоб нам быть нежестоким и неопальчивым, без суда и без вины никого не казнить и мыслить о всяких делах с боярами и думными людьми сообща, а без их ведома и тайно и явно никаких дел не делати». Мы крест целовали боярам на том, чтобы никого из них, вельможных и боярских родов, не казнить ни за какое преступление, а только ссылать в заточение, коль провинятся.
Марфа Ивановна скрестила руки на груди и зло сказала сыну:
– Крест тот, прости меня господи, мы зря целовали! А чернь-то ныне говорит: в русской земле хозяйствуют бояре; бояре ни во что царя ставят; царя не боятся; Марью Хлопову-де Романовы сгубили… и Долгорукую сгубили.
– Матушка, – еще тревожнее сказал царь, – не вспоминай мне Марью! Я рад уже покою. Бояре всем у нас вершат. И в тереме от них не сладко жить. Ну, коль охота им вершить дела, пусть так.
– Не дело молвишь! – заявила Марфа властным голосом. – Боярам дай боярское, а черни – царское! А бог сравняет всех до единого. Не думай долго. Шли-ка, Михайло, наскоро за атаманом; поговори да приласкай, щедрым будь. Не ошибешься… Да вот еще: чтоб самозванства больше не было и в помине, ты повели соорудить серебряную раку, следует переложить туда мощи убиенного царевича Димитрия, а раку перенести в Архангельский собор.
Царь перестал возражать.
…Приказано было позвать донцов: атамана Старого, Левку Карпова, Афоньку Бороду.
Пришли казаки к царскому терему не мешкая, но их там не пустили. У ворот стрельцы стояли.
– Аль оглашенные? – сказал один стрелец, усатый подворотник. – Куда вы прете? Вам невдомек, что царь в сей час почивает? Подождите на дворе.
– Гонец позвал нас, – буркнул Левка, – сказывал: не мешкать. Нам и отдохнуть после обеда не дали… Аль гонец ваш все попутал?
– Гонцы у нас не путают – службу справляют, – сердито отвечал подворотник. – А мы тоже службу правим царскую. Нам не указывай, пришелец! – И подворотник, зажав в руках пищаль покрепче, стукнул прикладом по земле. За спиной у подворотника висел еще бердыш на ремне.
– Царь нынче, – вскоре заговорил стрелец по-иному, – ел студень, жаркое, молочное, кисель. Семьдесят блюд. Аль не уморишься? Вон самозванец был: тот, пожрамши досыта, не почивал после обеда. То, знать, было не по русскому обычаю.
– Н-ну? И крепко самозванца попрекали в том? – с усмешкой спросил Алешка.
– Крепко! Беду в том чуяли… А на обедах царских садился самозванец лицом к панам, спиной к боярам. А Мнишка, шлюха, без православия повенчана была в соборе Успенском. И не одевайся он, самозванец, в польские кафтаны, да ходи он в баню русскую, не ешь он телятины в постны дни, – может, сидел бы спокойно на том троне, что сделал для себя из чиста золота со львами и орлом, с кистями жемчуга… Ноне на Москве совсем не так, – болтал стрелец. – Царь после обеда идет в опочивальню, спят в ту пору думцы царские, торговые людишки. Лавки свои с товарами припрут крюками и спят. Дьяки после обеда не строчат бумаг, нет скрипу перьев… Русь отдыхает!
Казаки с усмешкой слушали стрельца.
Но вот с крыльца царского терема кто-то властно крикнул:
– Эй, служилый, пропусти!
– Идите, коль велят! – обернулся удивленный стрелец, толкнув рукой решетчатые дверцы.
Три молодца – атаман Старой, Афонька Борода и Левка Карпов – быстро взошли на крыльцо.
Перед вошедшими в горницу казаками появилась старушка в черном иноческом одеянии. То была матушка государя Марфа Ивановна. На ней была черная бархатная накидка с собольей оторочкой, черный старушечий чепец на голове, нагрудница белая в складках, платье черного атласа. В руке Марфы Ивановны – клюка, на пальце – перстень с глаз величиной, а на запястье – белый мельчайший жемчуг. Глубокие морщины избороздили Марфино лицо вдоль и поперек, лоб высокий и восковые ввалившиеся щеки. Нос у Марфы длинный, глаза большие и строгие.
– Донские казаки, пожалуйте, родные. Ах, молодцы вы наши удалые! Ждем дорогих гостей. Пожалуйте, пожалуйте в терем царский. – Марфа говорила твердо, неторопливо, будто задушевно.
Казаки несчетно раз отбили ей поклоны низкие. С поклонами вошли в Крестовую палату, очутившись вновь, как в раю, среди золотой росписи чудеснейшей работы Паисеина.
Дверь скрипнула; яркий свет лег перед ней длинной стежкой. Вошел царь. Глаза от дум усталые, недобрые. Увидя атамана, царь улыбнулся.
– Ну, матушка, мы с глазу на глаз поговорим, – сказал он, взял атамана за руку и медленно повел его в Престольную палату.