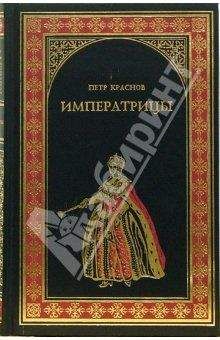Но отделаться от едкого чувства чего–то досадного и нехорошего, во что он попал, Камынин долго не мог.
XXXIII
«La demarche gue la Princesse Elisabeth de toutes les Russies fait, n'est gue pour vous prevenir, Monsieur le Comte, gu'il s'agit actuellement de se decider sur le parti, gue vous avez a prehdre dans le affaires du temps, – писала Орлову графиня Пиннеберг. – Le Testament, gue feu Elisabeth l'Imperatrice fit en faveur de sa fill, est tres bien conserve et entre bonnes mains; et le prince de Razoumovsky, gui commande une partie de notre Nation sous le nom de Puhaczew, etant en avantage par l'attachement, gue toute la Nation Russe a pour les heritiers legitimes de feu l'Imperartrice, de glorieuse memoire, fait, gue nous armes de courage pour chercher les moyens de briser nos fers».[121]
Она описала свою ссылку в Сибирь и бегство оттуда в Западную Европу… «Elle est soutenue et appuyee de plusieurs souverains; elle ne vous ecrit tout cela, gue pour vous avertir, gue l'honneur, la glorite, tout vous dicte de seconder une Pricesse, gui reclame des droits legitimes».[122] Она указывала, что ввиду войны, которая ведётся, необходимо и выгодно изменить отношение к туркам. Она сообщила, что находится в союзе с Портой и что ничто ей не может угрожать, так как она находится на турецкой земле и под охраной большого конвоя. У неё огромное количество приверженцев в народе, уже давно страдающем под тяжким игом честолюбивой женщины, славолюбие которой не знает пределов. Она указывала Орлову на его обязанность поддержать её, законную наследницу русского престола. Она заранее уверена в успехе своих притязаний… «Le grand ouvrage etant fait, il ne s'agit donc plus, gue de nous montrer. Nous avons cherche les moyens pour nous rendre a Livourne, mais on nous en aempeche, guoigue nous fussions bien assure de votre probite».[123] Она сообщала, что готова приехать в Ливорно, и просила Орлова ввиду тайны дать ответ через посланного на имя господина Флотирона. В конце письма она опять возвращалась к завещанию Императрицы Елизаветы I, которое хранится у неё в надёжном месте, она писала, что в этом завещании упомянута она одна, что её брат в кем даже не назван. «Время коротко и драгоценно, – писала она, – нужно двинуть дело, иначе всё государство погибнет…» Она борется не из–за короны, а потому, что её чувствительное и нежное сердце не может выносить стольких страданий русского народа. Она предоставляла графу Орлову сократить или расширить составленный ею манифест, но просила сделать это продуманно. Заканчивала она письмо словами: «De la reconnaissance il n'est pas necessaire, gue nous vous en parlions, elle est si douce aux ames sencibles, gu'elle ne laisse point d'espace entre la sensibilite et la susceptibilite; sentiments gue nous vous prions de croire a toujous sinceres».[124]
К этому длинному письму были приложены данные для составления воззвания к флоту. Они начинались выдержкой из завещания Елизаветы, Императрицы всероссийской, сделанного в пользу её дочери Елизаветы Петровны. На основании этого завещания она, наследница престола, ныне совершает шаг во имя блага её народа, который стонет и несчастия которого дошли до предела, во имя мира с соседними народами, которые должны стать навеки нашими союзниками, во имя счастья нашей родины и всеобщего спокойствия.
«Nous, Elisabeth Seconde, par la grace de Dieu, Princesse de toutes les Russies, avertissons toute notre nation, gu'elle n'a d'autre parti a prendre, gu'a se decider ou pour, on contre elle, nous avons l'avantage sur ceux, gui nous ont usurpe notre Empire, nous publierons dans peu de temps le Testament de feu Elisabeth Imperatrice, tous ceux, gui s'opposeront a nous preter serment, seront punis par les lois sacrees, etablies par la Nation meme, renouvelees par Pierre Premier, Empereur de toutes les Russies». Манифест этот был помечен: «de Foms de Turguie le 18 courant».[125]
Это письмо и проект воззвания к матросам были переданы Христинеку. Тот остался в Риме для наблюдения за графиней Пиннеберг, а Камынин сухим путём поехал в Ливорно к графу Орлову.
Орлов его принял в красивой вилле, где он жил с молодой итальянкой. Он внимательно прочёл и перечёл письмо графини, потом дал его прочитать Камынину.
– Чушь… Ерунда какая–то… Каша у ней в голове порядочная… Ты её видел?.. Что ты думаешь о ней?
– Несчастная авантюристка, жадная до денег и мишурного блеска… Продажная женщина.
– Красивая, по крайней мере?
– Если хотите… Есть в ней что–то… Ловкая, умная бестия и окружена проходимцами, международными мошенниками.
– Умная?.. Не вижу ума в этих писаниях. И никто её не просветил…
Орлов сжал руками голову. В его глазах знакомый Камынину стальной огонь.
– Не люблю, когда с бабами. Не на то они созданы… Ты народ наш не меньше моего знаешь. Живому, светлому, радостному, умному не верит. А вот такому вздору поверит, как верил в Пугачёва. Узнаю в её писании пугачёвский штиль… Народ, Иван Васильевич, на солнце плевать готов и в потёмках будет счастья искать… Надо сие в корне пресечь… Здесь же… Без шума, без скандала… Мы своё дело по чести и по совести исполнить должны. Я пошлю всё это при письме от себя матушке Государыне, а ты отправляйся обратно в Рим и живую или мёртвую, честью или обманом доставь ко мне эту… самозванку. Свой долг Орлов исполнит. Понял?..
В тот же день Камынин поехал обратно в Рим.
5. «МАРКИЗ «ПУГАЧЁВ
XXXIV
У Государыни – как гора с плеч. Донские казаки выдали Емельку Пугачёва генералу Александру Васильевичу Суворову, и тот везёт его закованного и прикованного к клетке в Москву.
Сама Государыня Пугачёва не боялась, но из Москвы были панические «эхи»… Готовы были вывозить казну и дела из Москвы. Чёрный народ стал заносчив. Мятеж сам по себе многого не стоил, но долгое время не было войск, чтобы усмирять его. Войска были в Молдавии. Было тревожно читать, как пламенем пожаров, кровью помещиков и дворовых людей катился этот мятеж по обширному Приволжскому краю, как сдавались города и крепости и как озверевший народ расправлялся с пленными и безоружными жителями.
Тот народ, о котором так хорошо было писать в сентиментальных тонах Гримму и Вольтеру, о котором, читая Монтескье и Дидро, так приятно было думать, как его облагодетельствовать, показал своё дикое, звериное лицо.
Все эти ночи Государыня плохо спала. Стало ясно, что, прежде чем освободить народ, надо просветить его, научить его и заставить уважать законы и повиноваться им… Ей это не достанется. Не ей сладость снять цепи с рабов. Внуку, может быть, даже правнуку – ей же надо созидать такие законы, которые смирили бы зверя, калёным железом застращали его. Она ещё раньше писала в своём «Наказе»: «Лучше, чтобы Государь ободрял, а законы угрожали. Лучшая слава и украшение Монарха – есть хорошее мнение о его правосудии…»
Проснувшись, Государыня долго не вставала и всё думала о своём долге перед народом. Думала и о том, чем покорял Пугачёв народ… Почему–нибудь шли за ним на бой, на смертные муки и саму казнь?.. «Надо служить народу… Он не служил, он потворствовал низким инстинктам. Народу надо уметь служить. Многое при настоящем служении не понравится ласкателям, которые во вся дни всем земным обладателям говорят, что народы для них сотворены, однако ж я думаю и за славу себе вменяю сказать, что я сотворена для моего народа. Нелегко работать для народа. Нелегко оберегать его от всяких случайностей. Но не надо бояться этого. Монарх обязан говорить о вещах так, как они быть должны… Про меня пишут в английских газетах: «Россия порабощена прихотям и произволу самовластительства…“ Пустобрёхи!.. Слава Богу, что Россия предана моему произволу, а не произволу Емельяна Ивановича, маркиза Пугачёва!.. Смешно!.. Знают они, как трудно управлять русским народом?..»
В шестом часу на придворном театре была комедия, играли французские актёры: «Le chevalier a la mode».[126] Потом был балет Толата, в котором танцевали с подделанными под башмаки деревяшками, отчего на сцене был красивый, ритмичный, согласованный с музыкой веселящий стук. После ещё была маленькая пьеса «L'impromptu de campagne».[127]
Государыня много смеялась и аплодировала актёрам Нейвиль и Дельпи.
После спектакля в малом зале был ужин для приглашённых. После ужина Государыня села играть в ломбер с графами Захаром Григорьевичем Чернышёвым, Воронцовым и Паниным. Она шутя выиграла «пулю».
Чернышёв взял колоду, чтобы сдавать карты для следующего роббера. Государыня рукою остановила его:
– Погоди, Захар Григорьевич… Расскажи мне хорошенько о Пугачёве. Почему же повиновались ему, несли ему деньги и продовольствие, на смертный бой шли за него?
– Шли, Ваше Величество, не за него и несли деньги не ему, а императору Петру Фёдоровичу… Это император Пётр Фёдорович явился к народу, окружённый вельможами и генералами, о которых народ слыхал. Это император казнил и миловал, дарил землю и волю. Потворствовал самым низким народным страстям – жадности и зависти.
– Захар Григорьевич, ведь ты и раньше как будто знавал Пугачёва?..
– Знавать не знавал, а слышать про него приходилось. В Семилетнюю войну был в моём отряде Донской казачий полк полковника Денисова. Был тот Денисов большой любитель до коней. При лошадях у него был вестовым молодой разбитной казачишка Емельян Пугачёв. Бывало, пойдёшь по казачьему лагерю, Денисов лошадьми своими станет похваляться. «Емельян, – кричит, – выведи того жеребчика, знаешь, что у татар отбили…» И бежит Емельян с оброткой угодить своему полковнику… Во время ночного нападения пруссаков Емельян возьми и упусти одну из любимых лошадей Денисова. Тот – крутой человек, да ещё и под горячую руку, наказал Емельяна розгами… Не добрым глазом посмотрел на своего полковника Емельян. Слыхал я потом, что в турецкую войну Пугачёв отличался храбростью, расторопностью, наездничанием, прекрасным владением копьём. Денисовская выучка даром не пропала, и произведён он будто в хорунжие. На войне заболел он чирьями и был отправлен на поправку на Дон. Дома он помог своему тестю уйти на Терек. Это же строго запрещено, ему грозил суд и жестокая расправа. Он бежал в степи – вот тут, какой бес его толкнул, кто его надоумил, кто знает, но только тут и началась вся его необыкновенная история. И раньше в степях были самозванцы и всё ходили слухи, что Император Пётр Фёдорович у раскольников скрывается.