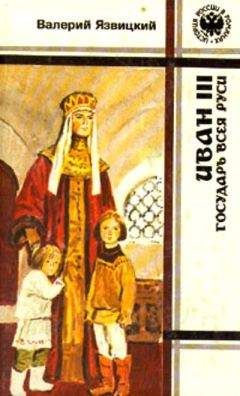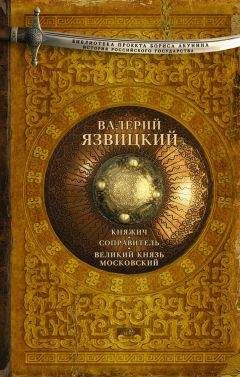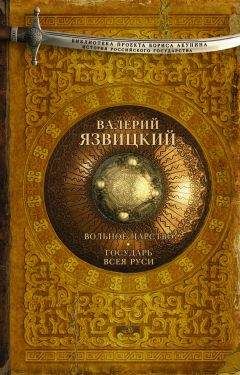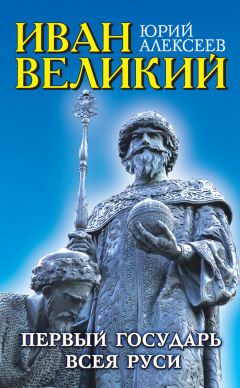— Голод будет, Федор Василич, — сказал вслух государь. — Обессилит народ-то, и скотине гибель…
— Да, государь, — вздохнув, тихо отозвался дьяк Курицын, — тяжкие времена ныне.
— Нам бы токмо полки нарядить да грады ко времю укрепить, — раздумчиво продолжал великий князь. — Для сего нам и союз с Крымом вборзе надобен.
Постучав в дверь, вошел дворецкий Данила Константинович.
— Государь, — сказал он, — царевич Касим пригнал со слугами своими.
— Где он?
— Провел его в переднюю твою с почетом, как гостя и друга твоего, государь.
— Добре. Приготовь ему лучший покой в моих хоромах, а в трапезной моей собери почетный стол.
Обратясь к дьяку, Иван Васильевич добавил:
— А ты, Федор Василич, гостя ко мне сюды приведи. Что-то с ним нам господь посылает…
Когда в сопровождении Курицына вошел царевич Касим, Иван Васильевич быстро встал ему навстречу и дружески протянул руки.
— Будь здрав, государь, многие годы, — сказал Касим, целуя руку великого князя.
— Будь здрав и ты, царевич, — ответил Иван Васильевич и посадил рядом с собой Касима, плечо к плечу, как верного друга.
— Сказывай, — молвил он, но уже по лицу Касима видел, что вести дурные.
— Умер Хаджи-Гирей, — сказал тот печально, — да простит аллах его прегрешения…
Иван Васильевич переглянулся со своим дьяком.
— Что в Бахчэ-Сарае? — спросил глухо великий князь.
— В Бахчэ-Сарай? — продолжал Касим. — На тот свет шайтан с ангел дерется за душа Гирей. В Бахчэ-Сарай сыны Гирей за престол дерется. Все.
Пропал наш дело…
Касим опустил голову. Иван Васильевич встал и начал молча ходить вдоль своего покоя. Потом снова сел рядом с Касимом.
— Скажи, Касим, — спросил он, — а кто и кому из сыновей Гирея помогает?
— Много сынов, — ответил Касим, — восемь сынов. Дерутся два: Нур-Даулет и Менглы-Гирей. Хан Ахмат — за Нур-Даулет. Турки, султан Мухамед — за Менглы-Гирей. Долго драться будет…
Великий князь вдруг усмехнулся и молвил весело:
— Мы поможем Менглы-Гирею. Турки ближе к Бахчэ-Сараю, турки победят…
В лето тысяча четыреста шестьдесят седьмое зима тоже была лютая и с такими морозами, что множество людей померзло насмерть по дорогам в Москву и к иным градам и на всех путях по волостям меж селами и деревнями.
Весна же наступила очень поздно. Ненастье затянулось до начала июня: то распутица с дождями и снегом, то среди непогоды летние дни со зноем солнечным. Даже конникам и то проезду почти не было.
В непогодь и на грязи пасху в Москве праздновали двадцать девятого марта. Не празднично было в эти ненастные дни, и даже пасхальный трезвон гудел невесело.
Иван Васильевич в тревоге постоянной был, боясь нового неурожая и беспокоясь смутой крымской, которая продолжала расти.
— Как там все содеется, — говорил он Курицыну, — богу единому ведомо.
Мы же знаем токмо одно, что силы свои копить надобно, какие сможем…
Поэтому государь уж на третьей неделе после пасхи, невзирая на бездорожье, поехал с Юрием на Оку и Угру грады проверять и заставы.
Прощальный обед был у старой государыни, у Марьи Ярославны. За столом были, кроме княжой семьи, брат государя, князь Юрий, и дьяк Курицын.
Речь зашла о новом митрополите Филиппе, и Марья Ярославна одобрила его, сказав:
— Новый-то владыка по мне хорош. Не ведаю токмо, как ты его, сыночек, почитаешь?
— И яз так разумею, государыня-матушка, — ответил Иван Васильевич, — помощник он мне в Новомгороде. Против папистов там борется. Они новгородцев к Литве и Польше всякой лестию манят. Разумеет он дела государствования. Яз же вот поеду с Юрьем против татар грады крепить, а тобя, государыня, собя вместо оставляю. Будь ты на Москве государыней, а владыка Филипп да вот Федор Василич тобе в помощь. Да с Ряполовскими и Патрикеевыми советы доржи, дабы обид у них не было. Про Федор Василича лучше пред ними умолчи, да и владыке не сказывай о нем. Он у меня тут после тобя, — вторые глаза. Юрий же, матушка, — десница моя во всех ратных делах. Вот и весь мой тесный совет, да еще душа моя, княгинюшка Марьюшка…
— Токмо вот внучек мой не в тобя, Иванушка, — молвила Марья Ярославна, — помню на десятом-то годике ты вельми скорометлив был, даже и на советах бывал боярских, да полки ты…
Старая княгиня, увидев, как потемнело веселое лицо сына, спохватилась и перевела разговор на другое.
— Зато Марьюшке, моей доченьке, — продолжала она, — покойней ныне, чем мне тогда было. Не забыть век мне, Иванушка, твоего первого походу. Сколь тогда я слез пролила…
Иван ласково улыбнулся матери и молвил:
— Успеет еще Ванюшенька. Время ныне иное, да и верно, не хочу яз сердце тревожить Марьюшке моей…
— А ты ведаешь, Иване, — заговорила опять Марья Ярославна, — Дарьюшка-то, Костянтина Иванычева, овдовела. Бездетной осталась. Продала, бают, все именье свое. В Москву хочет, постригаться в монастырь…
Иван, не показывая виду, вдруг взволновался, сам не понимая отчего, и ясно ему привиделось прощанье последнее с Дарьюшкой. Будто вчера это было…
— Что ж, — сказал он вслух спокойно, — ее дело. Видать, зело мужа любила, свет ей после него не мил…
— Что ты, сыночек, — живо откликнулась старая княгиня, — бают, глаз от горя до самой его смерти не осушала…
Иван Васильевич дрогнул весь, но усмехнулся и сказал:
— Трапеза кончена, государыня-матушка. Нам с Юрьем спешить надобно, дабы к ночлегу засветло доехать. Дорога-то ведь совсем, бают, непроезжая.
Он встал из-за стола, и все встали за ним, крестясь на иконы.
— Матушка, благослови нас с Юрьем родительским благословением…
Потом сам он благословил Ванюшеньку и долго прощался с Марьюшкой, обнимая и целуя ее с нежностью. Из детства вспомнилось ему многое, и было грустно, неведомо почему… В Коломну Иван Васильевич приехал с братом своим, когда начала погода устанавливаться.
В обед они по улицам коломенским со стражей ехали к Соборной площади, где наместник и воевода живет. Молчали оба брата. День хоть совсем уж весенний был, теплый и солнечный, но грусть почему-то томила Ивана. Может быть, потому, что опять ему юность его вспомнилась, и от грусти этой с болью слушал он похоронный церковный звон.
— Покойника несут, — сказал князь Юрий и снял шапку.
Остановился Иван Васильевич, тоже снимая шапку и крестясь, а за ним остановилась и вся стража, поснимав шапки и давая дорогу похоронному шествию.
Впереди несли крышку от гроба, потом шли священник в ризе, дьякон в стихаре и с дымящимся кадилом. В богатом гробу, обитом парчой, несли на шитых полотенцах молодую женщину.
— Купецкие похороны, — сказал Юрий брату, но тот не ответил, только молча кивнул головой.
За гробом теснилась родня со слезами и плачем, а плакальщицы, покрывая всех голосами своими, громко причитали, но из общего гула время от времени выделялся звонкий и чистый голос, и тогда Иван Васильевич разбирал слова.
Приходила скора смертушка,
Крадучись шла, душегубица,
— прозвенел рыдающий голос и потонул в общих причитаниях, но потом опять вырвался, и снова услышал Иван Васильевич:
Провожат он женку милую,
Молоду свою княгинюшку,
Свет Матрену Радивоновну…
Вдруг голос этот серебряный окреп страшной силой горестной, словами тоски нестерпимой в сердце впивается:
Не забудь мои ты слезы неуимчивы,
Хоть с подкустышка явись да серой заюшкой,
Хоть с погоста прилети да черной галочкой…
Шествие завернуло за угол, и голос сразу на словах этих оборвался.
Все надели шапки, и снова зачокали копытами кони княжой стражи, но Иван Васильевич ехал молча с широко открытыми глазами, а в душе его и в ушах все еще плакал рыдающий голос:
Хоть с подкустышка явись да серой заюшкой,
Хоть с погоста прилети да черной галочкой…
В субботу, апреля двадцать пятого, на четвертой неделе после пасхи, вернулся с братом Иван Васильевич в Коломну с Угры-реки, осмотрев там все места для ратных дел, объехав наиглавные крепости, и вдруг словно изо дня в ночь сошел.
С тишиной его страшной все встретили, смотреть на него все боятся, глаза долу у всех опущены…
Встревожился великий князь.
— Что такое тут? — спросил он тихо.
Князь Юрий, которому все уже известно было, обнял брата и молвил:
— Вестник из Москвы прибыл. Потом на Угру к нам поскакал, да разминулись мы с ним в пути…
— Какой вестник? — хрипло спросил Иван Васильевич.
— Тут я, государь, — кланяясь до земли, молвил печально Герасим из дворских слуг, — вторым мя старая государыня шлет. Повестует она: «Сыне мой, в пятый час нощи противу четверга преставися радость наша Марьюшка. В четыре дни от горячки сгорела…»