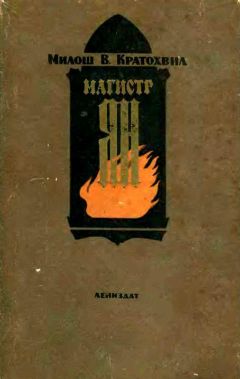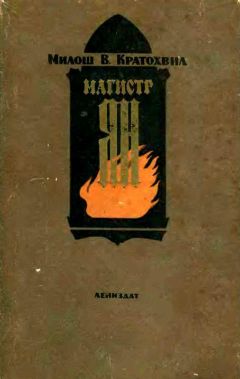— Чего тебе надо?
— Прости меня, преподобный отче, — испуганно, со слезами на глазах сказала сгорбившаяся женщина. — Мой ребеночек умирает некрещеным. Я пришла попросить тебя, чтобы ты окрестил его, пока он… — И она безутешно зарыдала.
Священник рявкнул:
— Ты с ума сошла! Сейчас вечер…
— Он родился вчера… — шептала женщина, — а сегодня — я боюсь — может умереть, как язычник…
— Убирайся, мне некогда. — Священник повернулся и вошел в дом.
Женщина заплакала:
— Отче, ради бога, не закрывай врата в царствие небесное моему ангелочку… Он умирает… Я принесла деньги.
Патер Войтех остановился:
— Сколько?
— Грош и двенадцать галлерков — всё, что у меня есть…
— Мало. Крещение стóит два гроша. Разве ты не знаешь этого? — Увидев, что женщина вот-вот зарыдает, патер сказал с упреком: — Неужели вы, люди, не соображаете? Чтó стало бы со мной, если бы я ничего не брал за крещение? У церкви немало расходов, связанных с заботами о спасении ваших душ. — В это время распахнулись двери. Из дома донесся смех и визгливый крик женщин. Кто-то из гостей открыл двери и крикнул фарару:
— Веди бабу сюда… Нечего перехватывать чужих!
Патер Войтех хотел поскорее отделаться от женщины. Он вытолкнул ее наружу и захлопнул за собой двери, — она не должна знать, что происходит в доме. Поставив подсвечник на пол, патер взял кубок в обе руки:
— Ну так открой ребенка…
Немного поколебавшись, фарар сунул два пальца в кубок с вином и побрызгал на закутанное тельце:
— Крещаю тя in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti![32] Это — церковное вино, оно святее святой воды. Ну, давай деньги, а закопать его — ты сумеешь сама…
* * *
Магистр сидел в своей комнате за столом и писал. Он даже не успел сменить профессорскую мантию на домашнее платье. Густая вечерняя мгла плотно облегла окна. В их стеклах отражался тусклый свет свечи, стоявшей на столе. Перо магистра скрипело по бумаге. Хотя он целиком погрузился в свои мысли, однако слышал тихие шаги студента, убиравшего комнату. Прокопек присел к очагу, возле которого уже лежали поленья. Прокопеку оставалось только поджечь трут под кучкой хвороста. Он ударил огнивом по кремню, и на трут посыпались голубовато-белые искры, похожие на маленькие звездочки.
Скоро пламя охватило хворост и зашумело.
Магистр повернулся к очагу и долго глядел на огонь. Пламя заблестело в зрачках Гуса и заплясало в них, искрясь и ослепляя. Положив гусиное перо на стол, он встал и начал ходить по комнате.
Студент всё еще сидел на корточках, внимательно поглядывая то на огонь, то на магистра, ходившего по комнате от стола к дверям и обратно. Сложив руки за спину и вскинув голову, Гус смотрел вперед. Казалось, он хотел заглянуть за стены своей комнаты и в плотной вечерней мгле увидеть далекое завтра.
Магистр остановился перед Прокопеком, пододвинул к себе стул и заговорил со своим учеником.
— Ну Прокопек, — улыбнулся Гус, — ты хорошо разжег, хорошо. Гляди-ка, какое пламя разгорелось от одной-единственной искорки. Ныне в Праге и во всем королевстве разгорелся такой же огонек, не правда ли? Он тлеет в людях, в их сердцах… Когда-нибудь он вырвется наружу. Древние римляне сжигали своих покойников. Они верили, что огонь очищает…
Прокопек с благоговением и тревогой посмотрел на своего учителя.
— Да, всё мертвое, отжившее нужно спалить. От всего, что устарело, человеку необходимо избавиться… — и, немного погодя, добавил: — даже если ему придется при этом погибнуть.
Прокопек понял, что магистр говорил это скорее себе, чем ему, но юноше было приятно то, что в минуту духовного откровения своего учителя он оказался рядом с ним. Прокопек опустился перед магистром на колени, чтобы быть еще ближе к нему, и взволнованно сказал:
— Учитель! Все мы любим тебя, верим тебе!
— Я знаю, сынок, знаю… — сказал Гус, ласково коснувшись волос Прокопека и пристально поглядев в его искренние глаза.
Прокопек больше не мог молчать:
— Ты, конечно, знаешь это сам. Но я обязан сказать тебе об этом. У тебя, учитель, тысячи учеников — не только мы, твои студенты, но и те пражане, которые слушают твои проповеди в Вифлееме. Студенты университета по твоему совету учат читать и писать поденщиков и батраков. Если бы ты знал, какие это прилежные и благодарные ученики. Они читают еще по слогам, но сколько радости приносит им это чтение! Мы ходим к ним, в ночлежки. Тебе надо бы побывать там самому! Многие люди подсаживаются к нам и слушают. То, что ты говоришь в Вифлееме, мы передаем людям. Ты проповедуешь там перед тремя тысячами, а за неделю о твоих проповедях узнает девять или двенадцать тысяч. Эти сильные и добрые люди жаждут твоих слов, как пересохшая земля — влаги. Ты даже не представляешь, что значит для них каждое твое слово! Да, каждое твое слово! Теперь, когда монахи начали продавать индульгенции и обманывать людей, людям еще больше нужна твоя помощь. Они готовы расправиться с монахами, но пока не решаются на это. Все ждут, что ты скажешь народу.
Гус посмотрел в широко раскрытые глаза юноши и увидел в них тысячи нетерпеливо вопрошающих взглядов.
Разогнув плечи, Гус уставился на огонь.
— Ты говоришь, прихожане ждут моих слов? — тихо, почти беззвучно спросил он Прокопека. — Но где беру я свои слова, если не у них? Это они, горемычные труженики, учат меня! Их жалкое и мучительное прозябание — источник моих мыслей. Я беру слова у этих людей, как пасечник — мед из пчелиных сот. Вот как, сынок!
Гус встал и подошел к окну. Гам, за окном, где-то в кромешной тьме, сидели или уже ложились спать те, кто завтра придет к нему со своими думами.
Магистр не помнил, долго ли он стоял у окна и глядел в темноту. За его спиной неожиданно скрипнула дверь. Он обернулся и увидел на пороге Палеча.
— Я не хотел тебе мешать, — извинился тот.
Хозяин пригласил Палеча, но гость, кивнув в сторону студента, сказал:
— Я хотел бы поговорить с тобой наедине.
Гус сначала нахмурился, а потом согласился.
— Оставь печку! — обратился он к Прокопеку. — Теперь я подложу дров сам. Иди спать…
Только после того, как студент вышел из комнаты, Палеч переступил ее порог:
— Ты, по-видимому, догадываешься, чтó привело меня к тебе домой.
— Нет, не догадываюсь, — ответил Гус и подложил полено в огонь. — Я полагаю, что нового мы ничего не скажем, если речь идет об индульгенциях…
— Да, речь идет о них… — подтвердил Палеч.
Гус молчал. Палеч нетерпеливо подошел к столу, на котором лежали исписанные листы.
— Пишешь? — спросил он, желая выгадать время.
— Готовлюсь к завтрашней проповеди, — ответил Гус.
Палеч с жадностью пробежал несколько строчек. Они вызвали у него изумление и испуг.
— Так ты… ты в самом деле выступаешь против индульгенций и сеешь смуту?..
— Сею смуту? — пожал плечами Гус. — Я хочу только сказать людям правду об этой торговле.
— Ты… ты везде носишься со своей вечной правдой!.. — сказал Гусу Палеч, уже поставивший всё на карту.
— В мире существуют и вечные истины. К примеру, грабеж всегда остается грабежом, независимо от того, кто грабит — жалкий карманник, крадущий золотой, или папа — грабящий всю страну, весь народ.
Палеч едва не перекрестился:
— Ты кощунствуешь!
— А ты думаешь иначе? — спросил Гус.
— Важно не то, что я думаю или не думаю. Речь идет о том, что я могу и чего не могу. При данных обстоятельствах я не могу идти по твоей гибельной стезе… — Палеч показался Гусу каким-то жалким и подавленным… — На что бы я стал жить? Ведь я сразу лишился бы своего прихода. — Потом виновато добавил: — Я до сих пор не вернул тебе свой долг. Потеряв пребенды, я не смог бы ни с кем рассчитаться.
Гус отвернулся от Палеча. Он не хотел глядеть ему в лицо.
Боже, каким духовно нищим может оказаться человек!
— О долге не беспокойся! — равнодушно сказал Гус. Едва преодолев отвращение к Палечу, магистр повернулся к нему, положил руку на плечо посмотрел прямо в глаза:
— Друг Штепан, опомнись! Неужели ты забыл смешную поговорку, которую когда-то сложили о нас? «Дьявол породил Виклефа, Виклеф — Станислава, Станислав — Палеча, а Палеч — Гуса!» Тогда ты был куда более горячим сторонником исправления церкви, чем я! Тогда ты негодовал, а теперь утратил всякое красноречие. Неужели ты не видишь, что изменяешь самому себе, порываешь со своим светлым прошлым? Как ты можешь беззастенчиво отказаться от славных обычаев наших предков, от чудесного и глубокого мира чистой и откровенной мысли, которая учила, обогащала и вела нас и тебя? Да, и тебя, Штепан! Ты отказываешься от университета, от наследия наших ученых и поэтов, от прекрасных идеалов, за которые они боролись испокон веков, не жалея живота своего. Неужели ты не чувствуешь, что отрекаешься от истины и порываешь с народом, цветом и плодом коего ты был сам? Разве тебе не известно, что каждый человек обязан честно отдать народу всё, что взял у него, помочь ему своим словом и делом? Эх, Штепан, Штепан! Не падай духом — выдержи испытание!