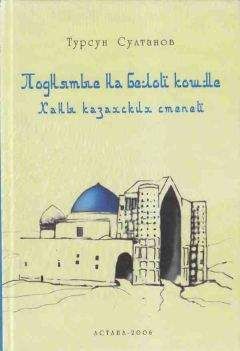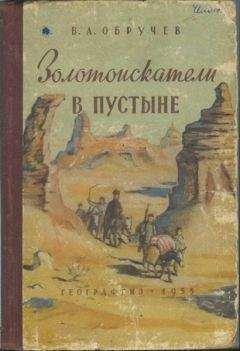Она связала разорванный повод, взобралась в седло и, защищаясь от колючих веток, поспешила к стоянке аула.
«Наверное, ошиблась я, — думала девушка, — на каком же другом языке может говорить Каражал, кроме казахского. Да и Каражал ли это? Может, почудилось?»
Въехав в аул, который прежде был разбросан на большой площадке, а теперь, после ночного происшествия, скучился на одном пятачке, огороженном со всех сторон частоколом колючей облепихи и саксаула, нарубленных за день стариками и женщинами, она сразу же, не обращая внимания на других, начала искать взглядом Каражала. Его нигде не было видно. Возле коновязи, устало понурив головы и лениво отбиваясь от мух, стояли кони тех двух жигитов, что привезли с собой печальную весть о Малайсары, да короткохвостый мерин ее отца — Оракбая.
— Куда же ты девалась, Санияжан, тебя отец ищет. Да и этот новенький жигит наш, Каражал, что ли, зовут его, тоже куда-то запропастился, — сказала женщина. И во взгляде и в словах ее Сании почувствовалось не то осуждение, не то сочувствие. Испытующе смотрели на нее и другие.
— Дочка, где ты? Видит аллах, как ты напугала меня. И что ты еще за дитя!.. Тут звери кругом, да и люди стали не лучше зверей. Ну, аллах с тобой. Пойдем по шалашам, собери остатки кумыса и айрана и принеси в юрту Маная. Там гости. Ну, те, что встретились нам… — говорил отец. — Немного отдохнули и поспали они и сами напросились к Манаю. Затянулась их беседа. Там же и Алпай. Видать, разговор у них долгий и тяжелый. Дай им кумыса, дочка.
Выцедив, взболтав и налив кумыс в чистую чашу, Сания внесла его в юрту Маная. Старейшина сурово взглянул в сторону вошедшего, но увидев, что это Сания, со спокойной грустью сказал:
— Входи, дитя. Кумыс будет кстати.
И сам Манай, и Алпай, и гости были чем-то озабочены, хмуры. Беседа прервалась. Сания почувствовала неловкость и, оставив чашу, собралась было выйти, но Манай проговорил:
— Разлей по пиалам, — и, уже не обращая внимания на нее, продолжил прерванную беседу.
— Горе одного не тяжелее печали народа, — говорили древние. Если сын останется жив, то вернется, если погибнет, то я верю, что он умрет, не опозорив чести ни своего рода, ни своего отца… Но не о том речь, братья. Горе каждого из нас переросло в муки народа. Кто же может противостоять джунгарам, если у них есть пушки, которые пятнадцать лет отливал рыжеволосый, голубоглазый северный человек неизвестной веры, неизвестного роду и племени, если этот человек научил их владеть пушками, если джунгары решили уничтожить наши города и навсегда властвовать над нами? — Манай тяжело вздохнул, помолчал, пока Сания подала ему большую пиалу кумыса. Потом задумчиво проговорил: — Ваша весть не для нас. Я правду говорю, Алпай? — он медленно повернул голову в сторону друга.
— Истина твоя, Манай. Но мы должны помочь им.
— Да, нельзя отсиживаться здесь, хотя наши гости и говорят, что джунгары пройдут мимо и не заглянут сюда. Скорее переберемся на другой берег Алтынколя, к Чингизским горам. Во все времена степь слухом полна. Не может быть, чтобы все батыры казахов сидели сложа руки. Аллах не допустит нашей гибели. Не так уж скуден и безроден наш народ, у него найдется сын, способный объединить жигитов всех племен и жузов. Нужно проводить наших гостей к батырам Тайлаку и Саныраку. Нужно только узнать, где они, и направить братьев к ним. Пусть все, что поведано нам, услышат и они. Слух о том, что в шатре и в стане джунгар есть наши люди, укрепит дух батыров и сарбазов.
— Но достаточно ли это для единства? — проговорил Алпай и, словно попросив взглядом прощения у друга, продолжил речь: — Благословенный Тауке завещал нашему народу искать друзей. Ты знаешь об этом, Манай. Он за два года до своей смерти посылал гонцов к белому царю, а царь присылал гонцов к нему, чтобы сговориться о военном союзе, о дружбе на равных, как брат с братом, и в дни опасности вместе идти на джунгар.
— Но этой дружбы нет по сей день, Алпай. Да и захочет ли царь русов подать нам руку, когда мы сами, как стаи перепуганных шакалов, бежим по степи, перегрызая по ходу глотки друг другу, предавая друг друга. Нет, Алпай. Никто сейчас не подаст нам руки помощи, если мы сами не поймем свою беду и не восстанем для последней схватки, которая должна решить — жить нам или умереть, стать навеки рабами джунгар.
Сания, наполняя чашу одну за другой, не знала, что ей делать, думала, как бы ей выйти из юрты, чтоб не мешать столь тяжелой беседе старейшин. Но если уйти, то кто будет разливать кумыс? Не положено, чтоб аксакалы сами занимались этим. И гостям это не к лицу.
Когда вместе с отцом и Каражалом она встретила этих двух незнакомцев на дороге, то подумала, что они враги. Потом они рассказали о Малайсары, и она решила, что это сарбазы батыра. Они говорили, что выполняли волю Малайсары. Тоской и болью повеяло от их слов, когда она спросила их о Кенже… А что же выходит теперь! По разговору аксакалов получается, что они прямо из стана джунгар. Так кто же они? Сания вспомнила, что старший назвал себя Томаном, а младший — Накжаном.
А все-таки этот Накжан привлекателен, он немножко застенчив и этим похож на Кенже… Но ведь это он, Накжан, говорил, что сегодня или завтра джунгары будут здесь, в этих местах. А дед Манай только что сказал другое и, видно, сказал с их слов. Так как же верить им? О чем они здесь рассказывали двум аксакалам до ее прихода? Почему они сейчас сидят молча, сосредоточенные, задумчивые, словно совершили великий грех…
И эти голоса в тугаях, голос Каражала… Сания теперь была уверена, что там, в зарослях, она действительно ясно слышала Каражала. Что случилось здесь за то недолгое время, пока она купалась?..
Она была поглощена своими мыслями. Ей, единственной дочери Оракбая, баловнице аула, не уступающей жигитам, ей, которой всегда казалось, что она вызывает зависть всех девушек и женщин аула своей красотой, своим открытым нравом, которая не терпела соперниц и хотела, чтоб жигиты аула вздыхали лишь по ней, удивляясь ее решительности и смелости, сейчас было не под силу разобраться в тонкостях столь простого мужского разговора.
— Дитя мое, позови своего отца — Оракбая. Остальных не тревожь. И пусть все те бедные скитальцы, что теперь оказались вместе с нами, не знают о нашем разговоре, пусть о нем не услышит и тот, кто назвал себя глашатаем. Его зовут Каражалом. Он из рода садыр. — Слова Маная прервали мысли Сании.
Она вышла из юрты и передала слова Маная своему отцу. Солнце приближалось к закату. Жара ослабла. Кони и верблюды стояли на привязи в центре поляны, вокруг которой расположились юрты и шалаши беженцев. Перед животными было вдоволь травы, накошенной за день. Возле шалашей и юрт все было прибрано, кое-где лежали готовые вьюки. Горело несколько небольших костров.
В лагере беженцев чувствовалось напряженное ожидание. Одни боялись нового прихода вчерашнего полосатого гостя, другие ждали, когда Манай уведет их подальше от этих мест.
Сания обвела взглядом лагерь и внезапно увидела Каражала. Он сидел в кругу людей у костра и в упор смотрел на нее. Она даже вздрогнула от неожиданности. Взгляд жигита казался загадочным, в уголках губ затаилась улыбка.
— Иди к нам, юный друг. Угостим куском жареной баранины, — нежность прозвучала в его голосе. Сания пошла на зов. Каражал вытащил из-за голенища острый нож и одним ударом отсек жирный кусок мяса от бараньей ляжки, что была зажарена на вертеле и теперь лежала посреди круга на старом дастархане.
— Ну и как, скоро здесь будут джунгары? — словно невзначай спросил Каражал.
— Сюда, к нам, они не придут, — ответила Сания и чуть не выронила мясо из рук, поняв, что нарушила наказ, только что данный Манаем.
— Так, так. А эти болтуны, которых мы сегодня взяли в плен, говорили, что джунгары будут сегодня или завтра. Вот вруны… Со страху это они, что ли? Вот и верь керейцам. Эти ведь керейцы. А большинство керейцев помогают джунгарам… — будто размышляя вслух, говорил Каражал, вытирая нож о пучок травы и вновь засовывая за голенища. Сания заметила, что он исподлобья поглядывает на Табана — оборванного старца с посохом, которого он сам привел сюда, как бедного безродного бродягу, скитающегося по свету из страны в страну, рассказывающего чудесные сказки и говорящего на разных языках.
«На разных языках»? — мелькнуло в голове Сании. А быть может, сегодня, там, в зарослях тугая, Каражал говорил с ним, с этим Табаном? Девушка посмотрела на Табана. Старик никогда не расставался с посохом. Даже сейчас посох лежал рядом с ним, с правой стороны. А сам он, задрав рваные штаны до колен, грел ноги у костра, хотя вечер и без того был чересчур теплым. Ноги были все в струпьях, с зарубцевавшимися ранами. Сания отвела взгляд. Что может быть общего между этим беспомощным, нищим и жалким бродягой и гордым Каражалом? Да и какая у них может быть тайна? Ведь Каражал говорил Манаю, что он встретил этого бродягу на дороге, что он, Каражал, понимает его только тогда, когда тот говорит на языке парсов.