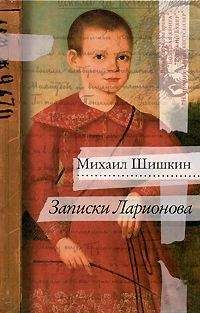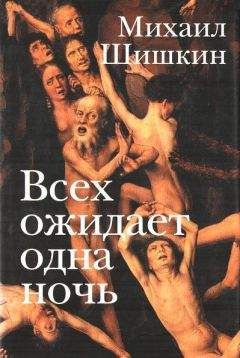Ознакомительная версия.
Больше всего должно было достаться Рузаеву, под носом у которого процветало воровство, за которое он обязан был в полной мере понести ответственность, и, не в последнюю очередь, за его ненависть к графу. Старик был уже под домашним арестом. Все удивлялись, что он ничего и не думал даже делать для своей защиты. Передавали только его слова, что он перед Богом и царем чист, а остальное его не тревожит. Из-под ареста его отпускали только в церковь, да и то с приставленным солдатом. Рузаев ходил в церковь каждый день и выстаивал все службы. Видно, Господь внял его молитвам и не допустил старого человека до позора.
На Крещенье, в самые морозы, снова случился пожар, причиной которого опять была лучина. Рузаев в это время парился в бане, выскочил и, кое-как одевшись, все время распоряжался при тушении. Закаленный, но сильно ослабевший организм не выдержал. С ним сделалась горячка, и на третий день Рузаев скончался.
Из Грузина торопили с окончанием дела. Теперь был взят под стражу Гущин. Для дачи показаний вызывали всех батальонных офицеров. Я рассказал все, что мне было известно о притеснениях, несправедливостях, воровстве. Я заметил, что членов комиссии меньше всего интересовал вопрос о том, насколько во всех этих безобразиях был виновен именно Гущин. Было ясно, что участь его уже решена, что его накажут с примерной строгостью, и не столько за его собственную вину – ее, по сути дела, и не старались установить, – сколько для острастки и для рапорта, ведь результатов следствия ждали на самом верху. На Гущина валили все. Его пример должен был послужить для всех начальников, чтобы они построже следили за тем, что делается у них в части.
Гущин защищался отчаянно. Он писал жалобы во все инстанции и даже в окно гауптвахты кричал на весь двор, что служил отечеству честно, имел от начальства только благодарности, что пролил кровь свою за Россию под Смоленском и Малоярославцем. Никто, ни один высокопоставленный чиновник, ни один из генералов, которых обильно угощал Гущин во время их посещений, не ответил на его многочисленные письма и призывы о помощи.
Коротко говоря, Гущина засудили. На первой неделе поста он отправился с этапом в сибирскую каторгу.
Помню, как на моем пороге оказалась женщина с тремя хныкавшими детьми и протянула мне узелок. Это была жена Гущина. Волосы ее были растрепаны, платок наброшен на голову кое-как.
– Что это? – спросил я.
– Тут картошечка, яички, пирожки, – сказала она каким-то отрешенным голосом. – Я моему Ивану Андреевичу в дорожку собрала. А он и говорит на прощание: «Ты это ему отнеси!»
Я не нашелся, что сказать, и только пробормотал:
– Поймите, ваш муж преступник!
Но она все протягивала мне узелок:
– Тут картошечка, яички…
Я захлопнул дверь и бросился на койку, положив подушку на ухо. Не скоро еще она ушла, так и оставив мне узелок у порога.
Вскоре после этого случилось несчастье с Богомоловым. Он отправился в полковой штаб по каким-то делам и не вернулся. Его нашли в мартовском талом сугробе на обочине дороги. Он был убит и ограблен беглыми солдатами. В его изуродованном теле лекарь насчитал шестнадцать штыковых ран. Страшно представить себе его последние минуты.
Прикрытого рогожей его привезли в батальон. Офицеры молча стояли кругом. На месте убитого мог оказаться любой из нас. Солдаты же не скрывали своей злобной радости. Я даже услышал чей-то шепот, что, мол, собаке и смерть собачья.
Вечером я зашел к нему на квартиру. Закрытый гроб стоял на столе. Крышка была забита сразу, потому что убийцы обезобразили его лицо. Все было в беспорядке, всюду валялись какие-то вещи, книги. Вдова сидела на стуле, вся в черном, еще более худая и бледная. Когда я вошел, она даже не посмотрела на меня. Я стал говорить, что, если бы Богомолов взял с собой кого-нибудь, как я ему советовал, ничего бы не произошло.
– Вы ничего не понимаете, – перебила она меня. – Виновата во всем я.
Она подняла с пола какую-то книгу, перелистнула несколько страниц, стала читать. Потом, будто опомнившись, швырнула ее и зарыдала, упав головой на стол.
Мною овладела странная, неведомая до тех пор усталость. Вещи самые простые и очевидные требовали от меня теперь невероятных усилий. Я должен был заставлять себя вставать по утрам. Заступая на дежурство, воспринимаемое всеми как подаренный день безделья, я мучился почти физически, потому что никак не мог объяснить себе, зачем я все это делаю. Зачем я сижу целый день в полной форме с ключами от всевозможных дверей? Зачем в двенадцать часов ночи, в непогоду, в проливной дождь иду осматривать караул, проверять пожарную команду, заглядываю в пожарный сарай и на конюшню и, убедившись, что все лошади в хомутах, снова плетусь куда-то по лужам? Для чего мне нужно знать, на своих ли местах продрогшие ночные часовые, ненавидевшие меня, везде ли, где следует, горят фонари? И чего стоило наутро после бессонной бессмысленной ночи отправляться в ротную школу, где пунцовый с похмелья учитель встречал рапортом и представлял список бездельников и шалунов, над которыми тут же производилась расправа. Верно, мальчиков нужно было наказывать, но почему именно я должен был приказывать пороть их? Сменившись и бредя домой, я испытывал нечто вроде ощущения человека, которого целые сутки заставляли толочь воду.
Я вдруг перестал понимать, что я здесь делаю. Кругом меня, худо ли бедно, делалось дело, и дело немалое. Дикий запущенный край на глазах преображался. Здесь трудно было узнать Россию. Дома были опрятны, улицы чисты, даже исправно освещались в ночное время фонарями. Дороги были столь хороши, что окрестные помещики делали крюк в несколько десятков верст, чтобы добраться по ним до своих медвежьих углов, что выходило скорее, чем тонуть по бездорожью. Так или иначе было уничтожено нищенство. Инвалидов и немощных поместили в инвалидные дома. Для кантонистов сделали обязательным посещение школы – за это одно только должна была быть благодарна наша немая и слепая страна.
И меня в общем-то не смущали тени, витавшие над болотами. Нет-нет, верно, все шло к лучшему, и ничего тут не поделаешь: где те мужики, превратившиеся в чухонских топях в тени? А Петербург вот он, стоит, наша гордость, краса и диво. Тут уж приходится выбирать: либо топь да глушь, либо хорошие дороги, пусть и мощенные косточками.
Меня мучило другое. Дело в том, что все это делалось как-то само собой, помимо меня, независимо от моих усилий. В заведенном порядке я был ни при чем. Не выйди я на службу – меня приказом заменили бы на кого-нибудь. Умри я в одночасье – тоже ничего страшного бы не произошло. Каждый год в полк прибывали только что выпущенные прапорщики, одержимые, с горящими глазами, жаждавшие славы, успехов, власти. Служба осталась бы службой.
Со мной что-то происходило.
Хорошо помню то дождливое холодное утро, когда вместо того, чтобы быстро вскочить и, как обычно, еще в полусне, чертыхаясь и проклиная все на свете, собираться, натягивать сапоги, глотать что-то на ходу, я вдруг остался лежать в нагретой постели, глядя на облачко от своего дыхания. Не явиться без особой причины на службу было делом немыслимым. Теперь же я не вставал только по той простой причине, что не смог самому себе объяснить, зачем сейчас вставать и бежать куда-то.
Я сказался больным.
Полковой лекарь с комичной фамилией Европеус, финн по происхождению, медлительный, добродушный, дотошно осмотрел меня всего и сказал, что ничего найти у меня не может.
– Хотя я прекрасно понимаю, что с вами, – ухмыльнулся он.
– Что же?
– Taedium vitae [13] . Но должен сказать, молодой человек, что болезнь эта здоровая, вроде геморроя, и с ней доживают до самой смерти, – он сам засмеялся своей шутке.
Я почти не вставал со своей койки, совсем ничего не ел. Никакой кусок не лез мне в горло. Так прошло два или три дня. Хандра моя не на шутку стала переходить в какую-то болезнь. Сонливость вдруг превратилась в мучительную бессонницу. У меня начался жар, болели глаза.
Меня навещал лишь один Бутышев, но не столько из сочувствия к больному, сколько для того, чтобы было кому в сотый раз поведать историю о том, как жена в сердцах сломала его флейточку.
– И бьет, и бьет о коленку, а не ломается. Потом швырнула о печку, и все. А я лежу и даже головы поднять не могу. Проспался и бил ее, бил. И что теперь делать?..
Бутышев уходил, и мне делалось страшно, а чего, я и сам не знал.
Все казалось, что я в какой-то пустоте, будто падаю куда-то. Я ненадолго забывался, а просыпался весь в поту. Потом снова меня охватывал озноб. И так без конца. Я стал задыхаться. Я понял, что болезнь моя близка к помешательству, и все время думал об отце. Мне казалось, что ужасная болезнь его передалась мне по наследству. В забытьи я все время видел отца, причем представлял его себе в минуту смерти, так мне запомнился рассказ матушки. Я видел его как наяву. Вот он растрепанный, с завязанной полотенцем головой, с остатками запекшейся крови в морщинах кожи на шее, на руках, уже обирает на себе одеяло. Лицо его искажено гримасой страдания, нет, злобы. На какое-то мгновение глаза, судорожно бегавшие по потолку, останавливаются, взгляд делается осмысленным, пальцы сжимаются в кулаки, тянутся к кому-то, и уже отказавшийся служить язык выдает какую-то птичью трель.
Ознакомительная версия.