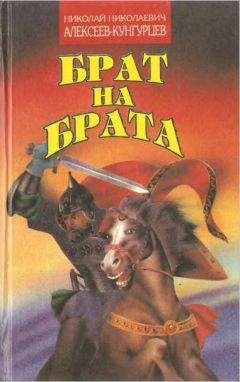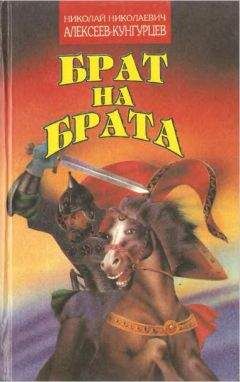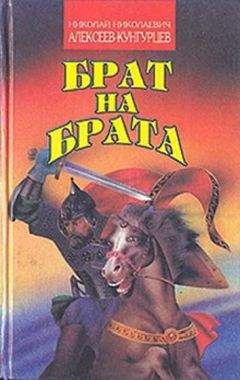По их удалении он долго еще сидел в глубоком раздумье.
Вельяминов вернулся от князя очень довольным.
«Покается теперь Дмитрий Иванович, что не сделал меня тысяцким» — думал он.
Некомат, наоборот, был очень не в духе.
— Поезжай к татарам! — вырвалось у него. — Нечего сказать, любо! Не того я ожидал.
— Э, братику! Зато сполним княжий приказ, так первыми людьми станем, — утешил его Иван.
Он строил воздушные замки.
Суровый край!
Бесконечные сумрачные леса, которые кое-где перерезанные извилистыми мутными ручьями да тропками, по которым удобнее пробираться зверью, чем человеку.
А зверья здесь немало.
Начиная от юркой лисы и кончая страшным, гигантским медведем-стервятником.
А порою затрещит хворост, раздадутся кусты и выставится грозная рогатая голова бородатого тура или зубра.
Глаза налиты кровью, рога — взрывают землю.
Беда встретиться с ним, если он свиреп: всадника вместе с конем опрокинет, убьет рогами, затопчет, и только кровавое пятно останется на седом мху памятью о недавно полных жизни существах.
Знают свою силу тур и зубр и никому не покорствуют.
Даже «мишка» — уж на что ему силы не занимать — и тот с опаской к ним подходит.
Только в зимнюю пору рискуют на них нападать обезумевшие от голода волки.
Навалятся десятком, вцепятся и рвут на куски.
Половина их падет, другие зато напьются теплой крови.
Не любо тоже встретиться и с вепрем, когда он пробирается сквозь чащу, срезая трехгранными клыками, как прутья, молодые деревца, и мигая тусклыми, маленькими глазками…
А дичины всякой иной что! Сила неисчерпаемая.
В летнюю пору стон по лесу стоит от крика, писка и рева.
Теперь, осенью, не то.
Притих бор. Пообсыпались кусты и не слыхать в них возни неугомонных пичужек. «Мишка» уж подыскивает берлогу, чтобы, как только дохнет стужей да снегом с полуночи, залечь на ложе из листьев и сладко дремать под своею теплою шкурой.
Волки стали поближе к деревням пробираться. Целыми ночами уныло плачет голодная рысь…
Смерклось.
В поле, быть может, еще светло, но под деревьями литовского бора теснится тьма.
Отряд «гусем» растянулся вдоль по узкой тропе.
Кони заморились, у всадников вид усталый. Видно, всем охота на ночлег.
С земли плывет чуть приметная сизая пронзительно-серая дымка.
Хорошо бы теперь костерок из валежника или из сухостоя да кашки бы отведать!
Ехавший впереди всадник поглядел на вершины сосен, на которых мерк свет, и придержал коня.
— Нет, сегодня до Вильны не добраться — промолвил он как бы про себя, и потом приказал:
— Стой. Будет. Станем на ночлег.
Повторять приказания не пришлось.
Всадники живо спрянули с коней, привязали кто где и разбрелись.
Вскоре по бору пошла гулкая перекличка, а еще немного времени спустя задымились и приветливо затрещали костры.
У самого большого из них сел, на разостланной медвежьей шкуре, набольший, отдававший приказ, — князь тверской Михаил Александрович.
Вид у него усталый и угрюмый.
Вышла незадача: думал засветло до Вильны добраться, а пришлось заночевать довольно далеко от нее.
— Не первый раз езжу, а впервой такое. Не к добру.
А пора бы быть в Вильне: и люди, и кони притомились
в далеком и трудном, многонедельном пути.
— Изволь покушай, княже, — предложил ему какой-то боярин.
Чуть отведал князь вкусной каши и отбросил ложку:
— Не хочу.
Лег на спину на шкуре и смотрит на небо, на котором уже загорелись нечастые звезды.
— Где моя звездочка? Не та ль вон, что то вспыхнет ярко, то чуть мерцает.
И вдруг вздрогнул: сорвалась его звезда и скатилась к востоку.
— Нет, должно не моя, — постарался утешить он себя.
А сердце тоскливо заныло.
Его давно уж мучают злые предчувствия.
Словно чуется что-то недоброе.
И отчего? Разве ему в дивковинку воевать с Димитрием?
Правда, на сей раз война будет полютее.
Зато он, Михаил, к ней и подготовится как следует.
Орда да Литва чего-нибудь да стоят. Нахлынут — сметут Москву.
А не пойдут они, и он не станет войны затевать. Только бы согласом заручиться, тогда вали…
Беда, что стар стал зятек Ольгерд-то. На подъем тяжел. Видано ли дело: два года Русь не тревожил.
Ну, да авось — тряхнет стариной.
Опять же сестра уговорить поможет…
Закрылся плащом князь, положил голову на седло.
От костра веет теплом. Слышится сдержанный говор и мерный шум лошадей, жадно жующих овес.
Подкралась дрема, запутались мысли.
Куда-то далеко унесся лес.
Сладкий сон охватил усталого князя.
Очнулся он, когда сквозь вершины дерев брезжил рассвет.
Было прохладно и тянуло сыростью.
Со всех сторон несся дружный храп.
Князь собирался повернуться на другой бок, когда почувствовал на себе чей-то взгляд.
Посмотрел в ту сторону и разом сел, протирая глаза.
По другую сторону чуть тлеющего костра сидел человек могучего телосложения, одетый в звериную шкуру, мехом вверх, и шапку, украшенную парой турьих рогов. Человек этот смотрел на Михаила Александровича и насмешливо улыбался во все свое широкое, плоское, с выдающимися скулами лицо, с обветрившейся загрубелой кожей.
Князь без труда признал в нем одного из приближенных Ольгерда — литвина Свидрибойлу.
Михаил Александрович всегда недолюбливал этого литовца, похожего больше на разбойника, чем на княжеского вельможу.
Быть может, в этой нелюбви играло роль и то обстоятельство, что Свидрибойло был убежденный язычник, и князю тверскому «претила его поганая вера».
— Как ты сюда попал? — спросил наконец князь.
— На ногах дошел. Вон и мои молодцы тоже.
При этом он указал на группу литвин, сидевших или лежавших невдалеке.
— А посмотрю — хороши вы, русские, — продолжал литовец, громко хохоча, — вас всех хоть голыми руками забери. Ну, что бы мне стоило перерезать всю твою дружину, как баранов: спят как у себя дома на печи.
— Голыми-то руками не бери — обожжешься, — проворчал князь, которому не нравился смех литвина.
— Будто? — продолжал тот на своем картавом, ломаном языке. — Мы и не сонных русских бивали. Гикнешь, ухнешь — бегут, как бабы.
— Одначе эти бабы и вам бока не раз мяли, — ответил князь, все еще стараясь сдерживаться.
И продолжал, переменив тон:
— Скажи лучше, как здесь очутился.
— А пошел с людьми туров бить. Да ночь в лесу застала. Назад далеко, надо было дождаться рассвета. Хотели костры разложить. Глядь, будто мерцает вдали. Мы на огонь пошли да вот к вам и выбрались. Смотрим, лежат человек десятка три и храпят себе знай. И хоть бы кто на страже… Я хотел было уж поучить как следует, по-свойски, как спать чужакам в литовском бору, да узнал тебя. Княжий шурин! Не замай, значит, а стоило бы, право, стоило.
— Ученье-то твое не больно нужно, — угрюмо, процедил князь.
Свидрибойлу словно радовало, что Михаил Александрович злится. Он не любил русских вообще, а князя тверского в особенности: причина крылась в том, что Михаил, как шурин великого князя литовского, пользовался довольно большим значением у Ольгерда, а это вызывало зависть Свидрибойлы— одного из ближайших советников Ольгерда. — Русский, да в такую честь попал, — раздраженно говаривал порою литвин.
Он искал случая уронить тверского князя в глазах литовского. Но пока это ему не удавалось, и ему приходилось только злобствовать да «изводить» недруга насмешками и глумлением.